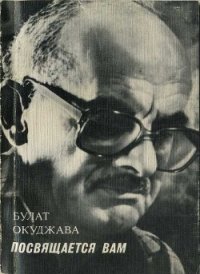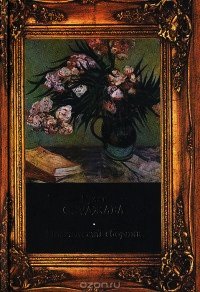Путешествие дилетантов - Окуджава Булат Шалвович (бесплатные серии книг TXT) 📗
Мужайтесь, милый князь, все устроится.
Недавно я вдруг вспомнила, как однажды, когда мы проводили лето на мысе Валки, я, наскучив людьми, убила Калерию и одна отправилась на необитаемый остров. Там был такой песчаный островок с редкими соснами, где я соорудила себе хижину и решила в ней поселиться. Однако меня разыскали и стали внушать, что девушка на выданье должна думать о другом. Но, пока я сидела в своей хижине, я вспомнила Вас и подумала, что как было бы хорошо и Вам здесь поселиться. Мы бы могли разговаривать о чем угодно, никуда не торопясь. А что, если Вам вдруг захочется это осуществить? Тогда я Вам с радостью все покажу: и как найти этот островок, и из чего построить хижину…
Ах, князь, все–таки все сложно вокруг. Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет. Простите, что надоедаю Вам по праву старого знакомства. Чего себе не позволишь? Вы можете не утруждать себя отвечать – я не обижусь…»
40
Гроза скапливалась в сыром петербургском воздухе исподволь, незаметно. Главные ее стрелы были направлены на деревянную трехэтажную крепость Сергея Мятлева, избавившегося наконец от визитов, от шпионов, от угрызений совести; позабывшего наконец злополучного темно–зеленого Колесникова, тонкошеего господина ван Шонховена, графиню Румянцеву и свои недавние смятения. Все установилось как будто, все как будто утряслось; даже рыжеволосая Аглая, обалдевшая было от пинков дурацкого камердинера, вдруг зарозовелась, расправила круглые плечи, выпятила горячую грудь, хихикала, сталкиваясь с Мятлевым ненароком в коридорах, на лестнице, среди мраморных статуй, напоминая молодому затворнику, что жизнь продолжается и пора встряхнуться, а это все и было, как оказалось, преддверием грозы, но, вероятно, надо было обладать не нашей прозорливостью и не нашей чувствительностью, чтобы суметь ощутить ее приближение. Это уже после, когда она наваливается и ударяет, мы хватаемся за сердце, выпучиваем глаза, сокрушаемся о собственном легкомыслии, а тогда, когда она только еще скапливается, набирает силу, созревает, подобно августовскому яблоку, мы беззаботно скалим зубы и внезапную грозовую свежесть воздуха воспринимаем как благо.
Октябрь миновал, затем ноябрь, за дождями повалили снега, ударил мороз, затрещал лед на Неве, заскрипели печальные осины в поредевшем парке, иногда слышался по ночам далекий волчий вой, деревянная трехэтажная крепость, никем не подожженная, расшатывалась все заметнее, уже в ранних сумерках зажигались почти бесполезные фонари… Однако Петербург кипел, страсти бушевали, подогреваемые жаром печей и каминов; носились слухи, подобные летучим мышам, один фантастичнее другого; в бывших покоях Александрины по ночам тихо и монотонно выло пожилое привидение, уже никого не пугая…
Сначала приехала страдающая фрейлина Елизавета Васильевна, изнемогающая под бременем огорчений, уже давно не похожая на сестру, теряющая слова, путающаяся в обвинениях. Надо было видеть ее трагическое лицо, чтобы лишиться даже последних сожалений, если они еще были.
Природа не могла придумать худшего ходатая по делам графини Румянцевой.
– Послушайте, – сказал Мятлев сухо, проводя этим «вы» резкую черту меж былым и настоящим, давая понять, что чаша переполнена и что отныне разговор может быть только официальным, – послушайте, страдания этой молодой дамы, слишком ловкой для своих лет, меня не интересуют. Я надеюсь, что вы здоровы и счастливо избежали гриппа? Видите ли, ее поползновения слишком откровенны, и на этот счет имеется весьма изрядное количество титулованных затычек…
Княжна. Чего?… Каких?…
Мятлев. Ну этих, кто бы мог утешить графиню в ее естественной потребности обременить себя семьей…
Княжна. Вы оскорбляете женщину, которая любит вас и носит под сердцем вашего сына…
Мятлев. Очень сожалею, но согласитесь…
Княжна. Ах, вы смеете предполагать, что дитя…
Мятлев. Я говорю о другом…
Княжна. Граф Нессельроде в полном недоумении. Ну хорошо, пусть господин Амилахвари, вот он, такой спокойный и справедливый, и в нем столько к вам участия, пусть он скажет, если вы пренебрегаете моим мнением и мнением общества, пусть он скажет сам, как ваш друг и поверенный вашего сердца… (Обернувшись ко мне.) Я вас так уважаю, и ваше слово… Скажите, ради бога, этому человеку, зараженному упрямством, что его поведение… Нет уж, вы не стесняйтесь, не скромничайте, вы скажите ему… да не деликатничайте, я прошу вас сказать…
Я. Хорошо, я скажу, дорогая Елизавета Васильевна… Ну что я могу сказать? Я думаю, что если мой друг… графиня Румянцева очаровательная женщина, в ней столько всяких достоинств, что просто удивительно… Это несомненно… Я думаю вот о чем…
Княжна. Нет, нет, вы не деликатничайте, вы говорите, что думаете, как должно быть среди нас…
Я. Да, да, вот именно. Многие были бы счастливы предложить графине руку и сердце, я это и имею в виду. Она очаровательная и великолепная… Она из тех женщин, которые ради любви готовы… но, дорогая Елизавета Васильевна…
Княжна. Голубчик, скажите мне прямо, то есть скажите ему, скажите это ему, вот это все скажите ему… Вы имеете на это право…
Я. Конечно.
Княжна. Вы имеете на это право, потому что я не знаю женщин, обиженных вами, вы так безукоризненны, что вы имеете право сказать это ему…
Я. Конечно. Разве хоть одна из тех, кого я знал, жаловалась на меня? Кто это говорит? Никто… Никто не может этого сказать… Поэтому я считаю своим долгом сказать вам…
Княжна. Ему, а не мне…
Я. Ему я уже все сказал, я хочу сказать вам, что он мой друг и это само по себе… конечно, я могу обольщаться, но уж поскольку вы так снисходительны, оценивая мои отношения с женщинами, и так высоко судите обо мне, то я могу позволить себе смелость думать о своем друге в самом достойном смысле, хотя это, дорогая Елизавета Васильевна, совершенно не противоречит тому, что вы говорили, и ваши огорчения рвут мне сердце…
Княжна. Я не совсем вас понимаю… то есть я вас понимаю, но я хотела бы, я просила вас сказать ему, вот ему… мы не можем… это невозможно… у меня уже нет сил…
Мятлев. А может быть, вам снять с себя ваши высокие полномочия, отказаться от этого непосильного бремени и предоставить мне самому…
Княжна. Я не понимаю вас…
Мятлев. Ну пошлите меня к черту!
Княжна. А наше имя?… Ваша непритязательность и страсть к скандалам общеизвестны. А наше имя? Что посоветуете вы мне, как посоветуете вы поступить мне, когда я вижу, как оскверняется и предается поруганию наше имя? Как прикажете поступать мне?…
Я. Елизавета Васильевна, дорогая, да будет вам ссориться! Это теперь у вас коса на камень… Теперь вы ничего не решите… Да зачем это нам всем?… Ну, обменяемся взаимными оскорблениями, ну, обидим друг друга, а завтра ведь будем об том плакать…
Но слова мои не дали ничего. Она ушла со слезами в глазах, чего раньше себе не позволяла. И камень превращается в песок, не то что слабое сердце женщины. Он засмеялся и сказал:
– Мне кажется, что кто–то роется в моем дневнике. – Я усомнился, но он продолжал с жаром: – Ей–богу, я всегда захлопываю его, а тут застаю раскрытым… и уже третий раз… и всегда на 13 октября, а нынче уже декабрь… И вообще мой дом разрушается.
Да, дом разрушался. Привидение свирепствовало уже не на шутку. На чердаке под синей пылью мы обнаружили погнутые ржавые гвозди, вырванные из своих гнезд; растрескавшиеся балки; труху, в которую превратились дотоле казавшиеся вековечными дубовые стропила. К легкому поскрипыванию лестницы прибавились стоны, карканье, визг и причитания, и Мятлев вдруг обнаружил, что может на слух определять любые из ничтожных событий, совершающихся выше вестибюля. Иногда это даже занимало, ибо о каждом из живущих эта лестница возвещала по–своему, и, мало того, по этим звукам можно было определить, кто движется и каково его душевное состояние, и потому заранее знать, как встретить идущего и встретить ли или укрыться в библиотеке. Да, дом разрушался, и он разрушался стремительней, нежели следовало от него ожидать… Он походил на старика, разучившегося владеть своим телом, мозгом: говорящего невпопад, бессознательно переставляющего ноги, сморщенного, с детской улыбкой, скрывающей какую–то даже ему неизвестную тайну минувшей жизни, какой–то сладостный туман… Теперь не хватало одного сильного удара, чтобы этот трехэтажный старик с невинной улыбкой покосился и рассыпался, погребая под едким прахом минувшие судьбы, некогда живые страсти, недописанные дневники, обрывки слов, потерявших значение и ценность, и сомнительные надежды… И вот этот гром ударил и гроза началась.