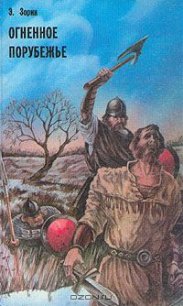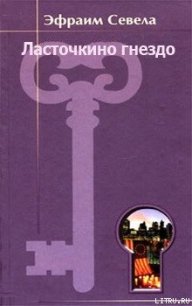Большое гнездо - Зорин Эдуард Павлович (читать полностью бесплатно хорошие книги TXT) 📗
— Нынче будет доволен владыко.
Возок раскачивало, скрипели полозья, мужики молчали. Не видно было, куда въехали. Но скоро остановились.
Вытащили Митяя из темноты возка на слепящий снег, поставили на ноги, подталкивая сзади, погнали на высокий, чисто выметенный всход с резными перильцами.
Господи, да как же сразу-то он не признал: так и есть — Владычный двор! Вон и София рядышком тускло поблескивает свинцовыми своими шеломами.
Давно ли бранился перед этим крыльцом Ефросим, давно ли изобличал перед толпой Мартирия, давно ль следили мужики грязными лаптями и поршнями в ложнице у владыки... Тогда лежал архиепископ на лавке, прозрачный и немощный, шарил испуганными глазами по мятежной толпе. Нынче стоял он в шелковом одеянии до полу, с блестящей панагией на шее и тяжелым посохом в крепкой руке. Глядел насупившись, сурово. Властным взглядом пронзил затрепетавшего от робости Митяя.
— Пади! — возмущенно зашипели сзади державшие его за руки мужики. — Владыко пред тобой.
Опустился на колени Митяй, глаза потупил. Владыка ударил об пол посохом.
— А вы изыдите! — грозно повелел мужикам.
— Встань, отрок, — ласково сказал он Митяю. Протянул руку, выдернул кляп, брезгливо швырнул тряпицу в угол. Тонким ножичком ловко перерезал путы на руках Митяя. Сказал сдержанно:
— Страх из сердца изгони. Не тебе я ворог, а игумену твоему Ефросиму. Сядь.
Сидеть в присутствии владыки простому послушнику не пристало. Помялся Митяй, но сесть не решился.
— Хорошо, — сказал Мартирий. — Смиренье — богу угожденье, душе спасенье. Гордому бог противится, а смиренному дает благодать. Переломлю я твоего игумена.
Обидно стало Митяю за Ефросима, любил он своего старца и за праведность почитал.
— Почто ломать его, владыко? — робко спросил он. — К людям старец приветлив и справедлив. Душа у него чиста и непорочна.
— И твоими устами глаголет Ефросим! — вскричал Мартирий, вдруг сразу меняясь в лице. — Как я порешил, так и будет. Не позволю игумену мутить новгородский люд!..
— Меня-то зачем в путы взял? — удивился Митяй. — Я игумену не указ.
— Любит он тебя, — улыбнулся владыко. — Любит, вот и взял...
— Про то не ведаю, любит ли. Но слова твои к чему, никак не разгадаю...
— А вот помысли-ко,— настаивал, хитро щурясь, Мартирий. — Сказывали мне, будто ты смышлен.
— Смутно говоришь, владыко.
— Кому смутно, а кому и яснее ясного.
Только тут осенило Митяя.
— Верно предсказывал Ефросим: коварен ты, владыко, и бога в душе твоей нет.
Вздрогнул Мартирий, поднял над головой посох, но вовремя пересилил внезапно вскипевший гнев.
— Дерзок, зело дерзок ты, отрок, — покачал он головой. — Едва не ввел меня во грех. Спасибо богородице — она, она остановила.
— Эй, слуги! — крикнул Мартирий и приказал явившимся на его зов людям: — В темницу его, да стерегите в оба!..
5
Вьется белый санный путь вдоль Волхова. Скользят по нему возки и розвальни, скачут воины, идет простой новгородский люд — кто в лаптях, кто в чоботах, кто в меховых сапогах. Идут на морозе, торопятся, набиваются на ночь в деревеньки переночевать под ветхим кровом у чужого спасительного огня.
Сидят в прокисших избах, тесня хозяев, хлебают жидкую ушицу, сгребают ложками в жадные рты горячее сочиво, храпят, раскидавшись по лавкам, рассказывают терпеливым хозяевам в благодарность за ночлег веселые, а чаще грустные байки — про свою неприкаянную жизнь, про соседей и земляков.
Заночевали поздним декабрьским вечером в одной из таких изб игумен Ефросим с Митяем.
Вышли они из Новгорода на рассвете, ни с кем не простясь, — тихо, как вороги. Впереди — Ефросим, Митяй — позади ковылял. Ворчал игумен:
— Нынче снова с тобою беда. Почто отстаешь, негодник? Почто вихляешь, яко неподкованная кобыла?..
— Ноги у тебя длинные, отче, — скулил виновато Митяй.— Погодил бы... Куды нам поспешать? Все одно домой путь держим.
— Оттого и поспешаю, аль невдомек? Стосковался я, Митяй, по родной обители. Тихо там, печи топлены, монахи кротки, пастыри усердны...
Остановился Ефросим на взлобке волховского высокого берега.
— Ужо вам! — погрозил он кулаком виднеющимся за морозной пеленою свинцовым куполам Софии. — Тьфу на тебя, Великий Новгород!..
Плюнул и зашагал, не оборачиваясь, с силой втыкая суковатую палку в твердый наст...
— Эко осерчал ты, отче.
— Небось осерчаешь... А ты, смиренник, почто на игумена своего скалишь зубы, — остановился он, — разглядывая Митяя, словно увидел впервые. — Мало насиделся в темнице у Мартирия? Ишшо захотел?..
— Свят-свят, — перекрестился Митяй.
Вчера это было, всё свежо в памяти — явился игумен, прямо от Мирошки, к Мартирию на Владычный двор.
Пропустили его в хоромы без лишних вопросов и разговоров — ждали. Держа прижатой ко груди рукою железный крест, вошел Ефросим размашисто, остановился, перешагнул через порог, дерзко взглянул на восседавшего в высоком кресле Мартирия. Служки, стоявшие по бокам от владыки, в растопыренных зипунах (под зипунами надеты кольчуги, за поясами — короткие мечи), обеспокоенно зашевелились.
— Здрав будь, владыко.
— И ты будь здрав, Ефросим.
Глаза в глаза. Непотребные, злые слова клокотали у игумена в горле. Но выкрикнуть их он не посмел, сдержался, крепче сжал рукою железный крест.
Не за себя пришел говорить Ефросим, хотя и знал: за себя — тоже. Однако не было за его спиной разгневанных людей, не слышались крики и гул толпы. За дверью прохаживалась стража, сопели, изнывая под тяжестью кольчуг, готовые по первому зову поспешить на помощь владыке служки.
— С чем пожаловал, Ефросим? — нарушил затянувшееся молчание Мартирий.
Слабый голос его был исполнен ангельской кротости. Но глаза, как буравчики, остро сверлили игумена.
— Скажи прямо, владыко, почто держишь отрока моего в темнице? — сказал Ефросим.
— Коли знаешь про то, и разговор наш будет короток, — ответил владыка. — Взял я его, дабы тебя спасти от греха великого.
Тут бы, по нраву, и взорваться игумену. Но снова сдержал он себя, Мартирию не позволил над собою потешиться. Отвечал спокойно, по присказке:
— Где гнев, там и милость. Что хочешь ты от меня, владыко?
— Многого не прошу. Да малое придется ли тебе по душе?
— Сказывай, — согласно кивнул игумен.
— Митяя я тебе хоть сей же час возверну. Мне он не надобен, хоть и дерзок в словах и помыслах, но то не его вина, — сказал не спеша Мартирий. — Ты же поклянешься мне на кресте, что покинешь Новгород и навсегда удалишься в обитель...
— Милостив ты, владыко, — усмехнулся Ефросим. — Худшего ожидал. Прости. А клятва моя — вот она: во имя отца и сына и святого духа...
Он вдруг сорвался, перешел на крик:
— Не будет ноги моей в Новгороде!.. Проклят город сей и все, кто в нем! Холопы и рабы, лисицы многоликие — сгиньте!.. Пожирайте вольный хлеб свой и друг друга, топчите святыни, надругайтесь над слабыми, перед сильными ползайте на брюхе в грязи и навозе... Возрадуйтесь, что свободны, что нет над вами бога милосердного. Сгиньте!..
Кому высказывал он правду, в страданиях вымученную, перед кем метал бисер?!
Только улыбнулся Мартирий и хлопнул в ладоши. Служки привели Митяя, вытолкали их обоих за дверь, проводили за ворота и наглухо закрыли створы.
С тем и ушел Ефросим из Новгорода. Не нужен он был никому, и ему никто не был нужен. Остался у него Митяй, смышленый отрок, — ему и отдаст он остаток своих дней...
В избе, где ночевали, трое было случайных людей: пожилой скоморох, купец-удалец да седой мужичок без прозванья.
Скомороха звали Радко. Сказывал он про себя невеселую быль:
— Жизнь изжить — других бить, и биту быть.
Сам я из Новгорода родом, а много мотался по всей Руси. Дело наше не простое, хлеб горький. Бывал я и в Чернигове, и в Киеве, и в Рязани, и во Владимире. В Суждали бабу схоронил, Вольгой ее звали. Шибко болело у меня сердце, так свербило, что силы нет. Да только скомороху разве до слез?.. Ходили мы с Карпушей, сыночком моим, да с Маркелом-горбуном по деревням, тешили людей веселыми байками, кормились чем бог пошлет... Карпуша мой весь в матушку-покойницу вышел: красивенький был и шустрой. Вот и приглянулся он князю Всеволоду — взял он его к себе в меченоши. Последней радости меня лишил, последнего утешения. Маркел-то вскорости помер, а про Карпушу я долго ничего не слыхивал. Один остался, как перст. То к обозникам прибьюсь, то к купцам... А как встанем на отдых, скоморошины сказывал. Шибко любит народ наш веселое слово. Ты вот игумен, а и в твоих глазах бесы. Значит, правду говорю... Так-то и ходил я по Руси. Лаптей одних сколь истоптал — не счесть. Но тянут годы к родному порогу — не хочется спать вечным сном в чужой земле, своя душе ближе, да и к раю дорога, сказывают, со своей-то земли короче. Вот и решил я вернуться в Новгород, а перед тем сынка повидать. Думал, коли взял его к себе Всеволод, — нынче ходит он у него ежели не в передних мужах, то в важных дружинниках... Приплелся во Владимир, туды-сюды сунулся, сыскал знакомого камнесечца, Никиткой его зовут. Стал про Карпушу расспрашивать... Эх-ха, лучше бы не ходить мне ко Владимиру. Помер Карпуша-то мой, не дождался батьки своего, непутевого скомороха. Пил я, гулял на запоздалой тризне, чуть разума не лишился. Едва выпроводил меня Никитка из Владимира, дал припасов, одежу вот эту самую, чоботы и отправил в Новгород с купцами... Тако я здесь и сижу, в этой самой избе, а что дале делать — не знаю. Сила у меня уже не та, да и с памятью стало худо — перестали новгородцы слушать мои скоморошины. Иду вот на Нево-озеро, будто бы сестрица у меня в тех краях объявилась. Годков двадцать, почитай, не виделись. Признает ли?..