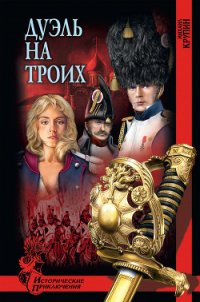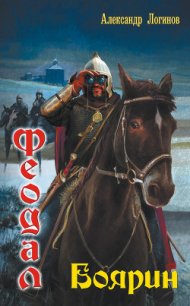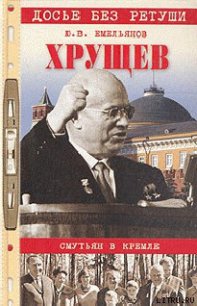Смутьян-царевич - Крупин Михаил Владимирович (лучшие книги читать онлайн .TXT) 📗
Опомнившиеся, удержавшие бег задние кое-как сбили с армяков товарищей пламя, из-под груды плачущих тел вызволили воеводу.
Боярин оказался жив и свиреп, маков цвет капал с вскрытой щеки — прихватили ему кушаком, — побежал назад, бешено лаясь. Нырнул в боковой лаз: живым ли, мертвым решил, видно, дорваться до шеи Корелы. Но повел теперь осторожнее, тише. Ратники чутко обследовали рытые грани и вскоре заслышали впереди гул. Салтыков приказал ближним передать за поворот назад факелы и приготовить оружие. Ждали сначала в полной тьме, но вот совсем рядом мазнул глину пурпурный блик, и вслед за ним вынырнули горячие витени [114] идущих повстанцев. «Пали!» — Михайла Глебович и его бойцы выстрелили, целясь чуть ниже воровских светочей, и ринулись, не умея размахнуться в тесноте шашками, спотыкаясь за раненых, вслед убегавшим здоровым. «Не отставать! — задыхаясь, требовал Салтыков. — Они нас выведут к самому логову!» Но из мглы впереди закричали: «Ой, простите! Сдаемся! Да здравствует Дмитрий Иванович!» — «Ах, вы опять за свое?! — возмутился второй воевода. — Кричите: „Да здравствует Борис!“ и ведите в вашу берлогу!»
— Да это, никак, Михайла Глебыч! — возрадовались невидимые беглецы. — Михайла Глебович, дальше некуда тебя вести — здесь тупик! Михайла Глебович, это свои — сотник Чуднов со стрельцами!
Тут Салтыков и сам признал голос своего сотника, отправленного при входе в лабиринт по боковой ветви.
Сотник Чуднов тоже погубил часть отряда, забежав в оборудованный лезвиями коридор, часть утопил в подземной ледяной речке и часть истребил ему Салтыков.
Факелы уже догорали, и на подземном военном совете решено было пробиваться обратно, на божий свет. Но заплутавшие в чаще обвалов, вод, тупиков и стальных терний ратники только с рассветом на ощупь вышли на волю, взяв направление по звуку заговоривших тяжелых пищалей Мстиславского. Влюбленно впитывали снеговой белый мир сквозь багряную рябь маленькими глазами. Студено кашляя, крыли донских колдунов, сочинивших для них страх и гибель.
В действительности же отряду Салтыкова весьма повезло, так как кромчане не ведали в эту ночь о посещении московитов. Мятежный лагерь, выставив часовых на метельном валу, мирно спал: атаман Корела простыл где-то, дремал в жару, и вылазки из крепости на неделю были отменены.
Еще одно пострижение. Братья
Тринадцатого апреля Годунову приснился злой сон. Приснился молодой Грозный, но уже с плешинкой, с линялой редкой бородкой. Грозный угрожал ему ногтем, указательным пальцем, смеялся мелко: «Бориска!»
Борис Федорович не стал слушать дальше, побежал. Ударяясь в тяжелые, кованные львами двери, вырывался из сна. Очнулся в жарких перинах, обтекших руки и ноги и остановивших кровь. Привстал, раздул ноздри — сердце задвигалось. Перед образом празднуемого давеча мученика сумеречно теплился каганец, в резном внутреннем ставне белела полоска — поди, третий уж час, и в сенях ждет уже крестный дьяк с иконой нонешнего святого (кажется, Василия-светлого). Перекрестился холодной ватной рукой, поехал с перины. Дойдя до окна, расцепил ставни — глянуть на солнышко: коли на Василия светило в кругах — быть урожайному году. За прозрачными новгородскими стеклами, новинкой опочивальни, ни солнца, ни неба — одно белесое, рыхлое облако. Но круги сиреневые катились, то ли по облаку перед глазами Бориса, то ли в глазах. Да ну их, русские эти приметы, срамота, дурь. Над Москвой давесь, в ясную ночь, пронеслась огневая комета, так ведунья Дарьица растолковала: Змей кому-нибудь деньги понес. То ли дело ливонский астролог: счертил след волосатой звезды на прозрачный холст, приложил к гороскопу царя и сказал через толмача точно — государю Москвы как никогда требуется осторожность, но и решительность не повредит.
Услыхав, что царь проснулся и ходит, крестный дьяк вошел с образом в яхонтах и серебряной чашей святой воды. Борис Федорович, придерживаясь за печную финифть-мураву, встал на колени, начал мерно, обычно, как во всякое утро, креститься и кланяться:
— Господи, помилуй, помилуй мя, Господи, сохрани грешного от злого действия…
Почему же привиделся остерегающий Иоанн? Надо было послушать, что скажет, погодить просыпаться… — может статься, хочет предупредить об опаске? Или так помогает губить неродного преемника сатане? Еще не поздно, быть может, постичь смысл видения. Воздетый ноготь, поворот головы, сумасшедшая умная искра в очах давно сгинувшего государя, — знакомо, однажды в точности видено прежде. Не часто Грозный поучал, осаживал своего ловкого крайчего Бориса Годунова, больше сам спрашивал, слушал, хвалил да мотал на дрянной ус, но, когда (всего раз или два) учил, именно такое было у него выражение. Что же вещал он тогда, проповедовал? Что-то яркое, необъяснимое. Ах, ну вот же: «…Умом скор, изобилен Бориска, за то и терплю, но извилист, слаб носом — вечно хочешь, чтобы и мужички были сыты, и бояре целы; норовишь по Христову завету жить? А ты запомни: здесь у нас не монастырь и не райский сад! Под нами царство! Понимаешь ты, ца-арство! Ца-а-а-арство!» — тихо повторял Иоанн, выгнув перед Борисом крюковатый перст водяного, повторял это вкусное слово с таким ненавистным упором, точно именно в звуке названия заключалась живая уродская суть. Так сказав, тогда глянул пронзительно, жалобно на Годунова и отворотился, махнув рукой.
Нетерпеливая, темная Русь, хищные знатные, мазурики дьяки, мрачный, пьяный простой народ.
Государь прежний, развеселый и лютый, — поздно вспомнил, постиг царь безродный Борис твой простой упрек. Вспомни раньше — пропал бы для царства небесного, — выращивая волкодавов, ублажая чернь водкой и кровью боярской, всю землю снова загнал бы в один тугой плотный хомут царской воли, мысли русских людей сковал в одно отупение бдения, — поди, тогда легкокрылая горстка поляков не полетела бы запросто в пасть кровожадной восточной страны. Впрочем, не только запальчивых ляхов — ни медиков-немцев, ни купцов-англичан не видать бы этакой скифской Руси и не поставить на Москве университета, не утешиться Борисовой душе. С университетом, конечно, и сейчас не слава богу, но надо же когда-нибудь начинать.
Борис Федорович вздрогнул, зябко поежился — духовник, окропив иконы, начал брызгать святой водой на царя. Годунов хлопнул в ладоши — вбежали постельничие, проворно и кротко принялись облачать. Послал к Марии и детям спросить, хорошо ль почивали, звать в домашнюю церковь к заутрене.
Федя вошел, уже убранный в пышную ферязь, — после утреннего богослужения пойдет вместе с отцом принимать поклоны думных бояр. Борис Федорович всюду усаживал подле себя и царевича. Доктор Шредер, приглашенный из Любека и, кстати, обучавший латыни Федора Борисовича, был весьма недоволен той малостью времени, остававшейся для его занятий от «сидений с бояры», приемов послов, обедов и служб православия, молил Бориса смягчить для наследника неукоснительный церемониал, снять с плеч его часть груза родительского покровительства. Шредер доказывал: только на самостоятельной воле молодой ум окрепнет и воля духа привьется к нему. Но больной царь, поглощавший избыток сил юности Феди, а без него голодавший, отвечал ученому обыкновенно: «Господин мой Генрих, один сын — как ни одного сына. Разве мочно на миг мне расстаться с ним? Хочешь, в Думе учи и секи его, на пиру рядом с блюдом его садись, только не отымай!»
— Батюшка, опять не спалось? — спросил, внимательно осмотрев отца, вошедший в часовенку Федя.
— Грозный снился, манил когтем — что-то хотел рассказать, — вяло открыл государь.
— Как манил? Манил к себе?! — перепугался царевич.
Годунов обмер. Вот о чем не подумал сам. Корифей прозвенел стальной вилочкой — мальчий хор робко принял запевную высь.
Подошел под «Спасителя в силах», ниже — пламенеющие шестикрылые ангелы молниями сбивали химер, змей с козлиными ногами и львиными мордами.
«Господи, ужели это предуведомление? Но пошто не серафим, не какой-никакой праведник (пусть тот же Федор Иванович блаженный) явлен по душу мою? Ужели в рай не пробиться, не сподобиться отдохновения вечного? Ужели по пути с исчадием адским? Чем же мог провиниться так я пред тобой, Милосердный? Которую скрижаль уж так переступил?