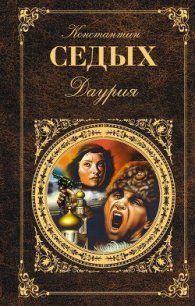Отчий край - Седых Константин Федорович (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
И пока стояли в Куранже, Роман ни разу не вспомнил про Ольгу Сергеевну. Но зато не раз вспоминал о покойной Дашутке, на которую походила Зоя. По ночам, когда Зоя блаженно спала у него на руке, улетали его мысли в прошлое: то на козулинскую мельницу, то на заимку, где он напрасно добивался Дашуткиных ласк. И тогда ему хотелось плакать. Плакать от жалости к себе и своей первой, мучительно горькой и чистой любви.
25
Сорокаградусная стужа стояла в голых, едва припорошенных снегом степях Забайкалья. Большая колонна одетых по-зимнему всадников шла широкой пустынной падью с юга на север. Это возвращались с маньчжурской границы уволенные в бессрочный отпуск партизаны старших возрастов.
Медленно светлело над падью мглистое небо. Малиновое солнце томилось от собственного бессилья в облаках на востоке. Удручающе однообразной была неоглядная, грязно-белая в лощинах и впадинах степь. Белые от инея трещины змеились на бурой, гладко выметенной ветрами дороге. Под копытами коней гулко звенела и брызгала синими искрами глубоко промерзшая земля.
Колонна шла окутанная сизым морозным паром. Впереди нее ехал на рослом коне Семен Забережный. Стужа выкрасила в белый цвет его черные брови, повесила ледяные сосульки на кончики жестких усов. Поношенная медвежья доха с поднятым воротником, застегнутая под самым горлом на ременную пуговицу, жала в плечах, мешая ему ворочаться и двигать руками.
Следом за ним ехали Лука Ивачев и Симон Колесников, оба в легких козлиных дошках и желтых овчинных унтах. На Луке была лихо заломлена набекрень каракулевая, словно подернутая дымком, папаха, на Симоне — круглая и пушистая, с распущенными ушами шапка. Симон сосредоточенно молчал, а непоседливый и шумный Лука все время вязался к Семену с разговорами.
— Семен Евдокимович! Товарищ командир полка! — кричал он хриплым от простуды голосом. — Ты повернись хоть разок, подвигайся, а то замерзнешь, как японский солдат на Шилке. Надел, брат, генеральскую доху и заважничал — торчишь в седле бурханом.
— Да мне легче упасть, чем повернуться, — добродушно отшучивался Семен. — Ведь это не доха, а горе, будь она проклята. Только бы обогрело — сниму и привяжу в торока.
— И где ты ее раздобыл, такую?
— Василий Андреевич Улыбин подарил в Чите. Возьми, говорит, мне она без надобности, а тебе сгодится.
— Значит, ты в Чите побывал?
— Всего неделя, как оттуда. Мы туда на прием к Председателю Совета Министров ездили. Принимал он почти всех дивизионных и полковых командиров партизанской армии. С победой над Семеновым поздравил, поблагодарил от имени правительства, а потом такой банкет для нас закатил, что любо вспомнить. Пили мы такие вина, какие мне, грешному, и во сне не снились… Я на этом банкете рядом с китайским консулом сидел. По-русски, холера, без запинки разговаривает и нашу водку стаканами хлещет. Он меня все господином полковником величал и просил, чтобы я ему на память свою фамилию в книжке черкнул. Откуда ему знать, что я едва расписываться умею?
— Значит, погуляли, отвели душу, — завистливо вздохнул Лука. — А кем же теперь там Василий Андреевич?
— Его теперь голой рукой не бери. Он в Дальбюро ЦК большевиков работает!
В полдень партизаны перевалили высокий Шаманский хребет. Весь гребень его был завален огромными каменными глыбами, среди которых торчали остатки разрушенных временем утесов. С хребта разбежались в разные стороны три дороги. Здесь мунгаловцы распрощались со всеми своими однополчанами и спустились в долину родной Драгоценки.
Слева от дороги потянулись крутые, в синеватых каменных россыпях сопки. Тускло и холодно блестели россыпи под оранжево-красным негреющим солнцем. Корявые деревца дикой яблони и густые заросли шиповника коченели на склонах глубоких, сбегающих к самой дороге промоин.
— Знакомые промоинки, Семен Евдокимович! — крикнул Лука и, догнав Семена, поехал с ним рядом. — Помнишь, коноводы тут у нас отстаивались, когда с каппелевцами бой был?
— Еще бы не помнить, ежели у меня на той вон макушке, — показал Семен на вершину конусообразной сопки, — фуражку осколком с головы сбило. Угадай он на полвершка пониже, и сыграл бы я в ящик…
Услыхав разговор, Симон присоединился к ним и весело пожаловался:
— А подо мной в тот день коня убило… Хороший конь был. От оренбургского казака мне достался, когда каппелевский разъезд на нашу засаду напоролся. Всего только месяц и поездил на нем, а конь был как картинка.
Справа, среди высоких частых кочек, забелели круглые, судя по цвету льда, до дна промерзшие озера. На пустых до этого берегах Драгоценки скоро появились кусты тальника, летний балаган пастухов, черная круговина овечьей стойбы. Постепенно кусты становились выше. Вот показалась крыша первой мунгаловской мельницы, ее деревянное русло, поднятое на спаренные столбы. Причудливые ледяные наросты свисали, как белые свечи. Радужными переливами горели они под солнцем. А за речкой, на косогоре, горюнилось чье-то несжатое поле.
— Не знаете, чья это пашня? — спросил Семен.
— Кажись, покойника Петрухи Волокова, — ответил Лука. — Видно, вдова его посеять-то посеяла, а сжать вовремя сил не хватило.
— Эх, Петро, Петро! — грустно вздохнул Семен. — Думал, что его хата с краю. Хотел умнее других быть, в стороне от смертной завирухи остаться. Вот и остался… Такого дурака свалял, что подумать тошно.
— Да, погиб человек ни за что ни про что, — сказал Семен, расстегивая ставший вдруг невыносимо тесным воротник дохи. — Сто раз, наверно, перед смертью покаялся, что не ушел с нами. Злости настоящей у него к живоглотам не было. За людей их считал, не ведал, что революция их бешеными собаками сделала.
— Бешеных собак убивают и на огне жгут, чтобы ни костей, ни клочка шерсти от них не осталось. А мы вот били, да не добили — на расплод оставили, — распалился внезапно Лука.
— Как это не добили? — нахмурился Семен. — Кажется, так расколошматили, что надо бы лучше, да некуда. Под одной Даурией тысяч семь уложили битых и мороженых. В Китай мало кому удрать довелось.
— Я не про то толкую. Речь моя о другом… Воевали мы за советскую власть, а нам вместо нее какой-то «буфер» подсунули, на красные знамена синие заплаты нашить заставили. При таких порядках недобитые гады живо из всех щелей попрут и снова к нам на загорбок усядутся.
— Правду говоришь, — согласился Симон. — Сожгли у нас семеновцы усадьбы, ни кола ни двора не оставили. Нам бы сейчас советская власть предоставила дома убежавших за границу богачей. А при «буфере» ни черта мы не получим, будем в землянках да телячьих стайках зиму коротать. Никак не пойму, кому и зачем понадобился этот паршивый «буфер». И не придумаю, как мы в нашей ДВР без России жить будем? Россия нам — мать родная. С ней мы сила, а без нее — цыпленок, которому всякой кошки и коршуна страшиться надо. Кому не лень, тот и слопает нас с потрохами.
— Откуда ты услыхал, что мы теперь с Россией врозь? — согнав с лица усмешку, напустился на него Семен. — Оба вы, как я вижу, ни бельмеса не поняли из того, что вам на всех митингах и собраниях вдолбить старались. Или их у вас не было?
— Митинги были. Намитинговались так, что охрипли. Но хоть и прожужжали нам с этой самостоятельной республикой все уши, а все равно сомнения…
— Да ведь на ДВР мы по указанию Ленина согласились. Разве не слыхали об этом?
— Про это, товарищ командир полка, мы даже очень хорошо слышали. Оттого хоть и погорланили, помахали кулаками, а согласились буферными гражданами сделаться. А будь иначе, полетели бы вы у нас с «буфером» вверх тормашками. Мы бы вам, уважаемые начальники, пятки салом смазали, — ответил ему со смешком и недобрым блеском в глазах Лука.
— Чего же тогда ноешь?
— Да ведь обидно — делали и не доделали. Есть и среди нашего брата такие, которые радуются, что мы не советские. Зло берет, как послушаешь таких. Не люблю я на полпути останавливаться.
— Ничего, доделаем, дай срок. Поуправится РСФСР со всеми врагами, поокрепнет малость и поможет нам. А сейчас, стало быть, иначе нельзя. Не слушай ты тех, кто радуется, и потерпи, ежели можешь.