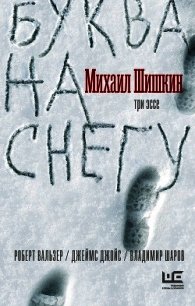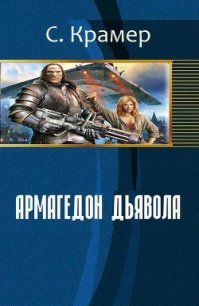Взятие Измаила - Шишкин Михаил Павлович (книги онлайн без регистрации .txt) 📗
На следующий день я договорился о приеме у лучшего городского педиатра, Ромберга. В назначенный день мы появились у него все втроем.
Ромберг оказался высушенным стариком, руки его плясали, глаза слезились, по коже ползли старческие пигментные пятна.
Он осмотрел Анечку и сказал, что видит некоторые задержки в развитии, но они связаны с ранними родами.
Катя осталась в смотровой комнате одевать Анечку, а я прошел с Ромбергом в его кабинет, как мне казалось, чтобы расплатиться, и уже достал бумажник.
– Присядьте, – сказал он мне хмуро, плотно прикрыв за собой дверь.
Я сел. Уже в ту секунду я понял, о чем он сейчас будет говорить.
– Постарайтесь выслушать меня спокойно, – продолжал Ромберг, перебирая свои трясучие пальцы. – Я не буду никак вас подготавливать и скажу вам прямо: ваш ребенок не такой, как другие, и никогда не будет таким.
Он стал сыпать медицинскими терминами. Я перебил его:
– Но его видела и акушерка, и… и еще один врач, и никто ничего мне не сказал.
– Думаю, что и акушерка все знала, и этот ваш еще один врач. Но попросту испугались. Знаете, в таких делах… Чтобы сказать родителям такую правду, нужно или мужество, или, если хотите, жестокость. Проще решить: пусть узнают от кого-нибудь другого.
Он помолчал, пожевал губами. Стал перекладывать на столе бумаги с места на место, бумаги тоже тряслись. Потом сказал другим голосом:
– Вы извините, что я грубо говорю с вами. Все люди от беспомощности становятся грубыми.
Еще он попросил ничего не говорить какое-то время Кате, оставить ей время прийти в себя после родов.
– Дайте ей немножко побыть такой же матерью, как все. Впрочем, вы можете, если конечно, хотите, сдать ребенка. Вы понимаете, что я имею в виду? При городской больнице есть детский приют, туда принимают таких.
Тут вошла Катя с Анечкой. Мы стали благодарить и прощаться. Я уже хотел выйти, когда Ромберг несколько раз кашлянул. Я, не понимая, посмотрел на него.
– Мой гонорар, – буркнул он.
Извинившись, я положил ему кредитку на стол.
Не помню, как мы пришли домой. Помню только, что моей первой мыслю было, что я все знал с самого начала, с самого первого взгляда. Я слонялся по комнатам, хотел чем-то заняться, чтобы забыться, и не мог. Стал было перевешивать картину, но оказалось, что уже невозможно – успели выгореть обои. Чтобы как-то успокоиться, прийти в себя, что-то делать руками, я принялся переставлять книги в шкафах, это притупляло мысли и утомляло глаза и мышцы.
Я все время заходил в детскую и наклонялся над кроваткой. Брал Анечку на руки, ходил с нею по квартире. Когда я увидел мою дочку в первый раз, меня охватила, подняла, понесла какая-то волна любви к этому человечку – а теперь, когда узнал, что она больна, эта волна подхватила меня еще раз, намного сильнее прежней, закрутила, как щепку.
Я все время приглядывался к Кате: неужели она, мать, ничего не замечает, ничего не чувствует? А может, так же, как я, все знает с самого начала, но просто боится себе в этом признаться и хватается за ту ложь, которой нас окружают? Вот я теперь снова ей лгу. А что мне делать? Сказать ей правду? Или продолжать бессмысленную жестокую игру?
Меня давили неразрешимые вопросы. Почему судьба решила ударить так жестоко именно нас? Что с Анечкой будет в будущем? Как она будет развиваться? Чего сможет достичь? Что станет с нею потом, как она сможет жить без нас? Мысль лишиться этого родного кусочка, как это предложил сделать Ромберг, я отбросил сразу. Но было вообще непонятно, как жить с таким ребенком дальше. И потом вопросы о будущем отступали перед насущным – важным казалось, чтобы вот сейчас, сегодня все было хорошо, чтобы Анечка не умерла – ее без конца преследовали болезни. Но страхи не отпускали: хорошо, я смогу моего ребенка сберечь, защитить сейчас, но что будет, если завтра Катю или меня вдруг унесет несчастный случай?
Катя тоже болела, после родов сделались осложнения. Помню, у нее начались желчные колики. В аптеке купили шприц и морфий. Она корчилась в приступе, от боли выступил пот, а шприц варился двадцать минут, и я молился, чтобы не лопнуло стекло. Наконец, я сам ввел ей в вену иголку, и вскоре Катя успокоилась, затихла.
Я все время думал о том моменте, когда надо будет сказать Кате правду. Нельзя сказать эту правду бережно, осторожно. Эта правда брутальна, она может убить ее. Хорошо, сейчас я взял эту правду на себя, думал я, сейчас я защищаю от этой правды Катю. Но сколько еще можно будет так беречь ее? Неделю? Несколько недель?
О несчастье знали, наверно, уже все окружающие и, разумеется, Матреша
– и все вокруг Кати надели маски незнания.
Однажды она попыталась спросить меня:
– Послушай, Александр, не кажется ли тебе…
Она посмотрела мне в лицо и увидела там тоже маску.
– Что?
– Нет, ничего…
Я знал: именно я рано или поздно должен сказать Кате, и именно меня она возненавидит за это.
Анечка много болела, часто подхватывала инфекции, простуды, все время то кашель, то насморк, бронхит. У нее было слабое сердце. В довершение всего началось воспаление легких. Ни Катя, ни я, мы не спали ночью, сидели у ее кровати. Наша девочка лежала в постельке совершенно синяя. Вдруг я подумал, что если сейчас она умрет, может быть, это будет для нее лучше. И даже не испугался этой мысли. А передо мной боролся за жизнь маленький человек, боролся за каждый вздох – с решимостью жить во что бы то ни стало. Больное сердце бешено стучало под рубашечкой. Полузакрытые глаза. Синее лицо. Синие руки. Анечка хотела жить – и мы должны были ей помочь.
И еще: ее болезни неожиданно сближали ее с другими, обыкновенными детьми. И это почему-то давало мне дополнительные силы.
Помню поразившие меня слова священника:
– Такие дети рано умирают – поспешите с крещением.
Долго держать тайну от Кати не удалось.
У меня была инфлюэнца, и пришел не наш врач, который был со мною в заговоре, а какой-то другой, я его не знал. Я не успел его ни о чем предупредить. И тогда все случилось с Катей. Выписывая рецепт, доктор, поглядев в детскую кроватку, стал говорить, наверно, нам в утешение, что такие дети часто болеют.
И еще он сказал:
– Я знаю, вы мне не можете поверить, но когда-нибудь придет момент, когда вы узнаете, как прекрасна жизнь и с таким ребенком и сколько богатства она вам принесет – это не утешение, это знание, опыт.
Я с ужасом смотрел на Катю. Она сидела, сложив руки на коленях, и смотрела в стену. Потом вскочила и, схватившись за голову, выбежала из детской.
Я бросился за ней, но Катя заперлась в спальной. Я стучался, она не открывала. Я прислушивался, но за дверью была тишина.
Доктор тихо прошмыгнул мимо меня к выходу.
Я снова стучал в дверь. Безрезультатно.
Иногда там раздавались только какие-то странные звуки. Потом я понял, что это Катя икала. Через какое-то время у нее началась истерика.
– Катя, открой немедленно, – кричал я, – иначе я сломаю дверь!
Она не отвечала.
– Я все тебе объясню, Катя, но только сперва ты должна выпить успокаивающее.
Я накапал для нее в стакан лавровишневых капель. Она не открывала. Из-за дверей доносились рыдания. Я принялся дергать ручку, пытался выломать замок, но прочная дверь не поддавалась. Я спустился звать дворника.
Когда он поднялся с топором и мы подошли к двери, та оказалась открытой. Я вошел. Катя сидела на диване, растрепанная, с красным заплаканным лицом, закрыв глаза.
Я подошел к ней, присел рядом, взял ее руку.
– Выслушай меня, Катя, прошу тебя! Такой ребенок – не наказание, а испытание. Нужно жить с этим. Мы нужны Анечке. И она нужна нам. И нужно быть сильным. Нужно невыносимое сделать выносимым.
Не помню, что еще я тогда говорил ее закрытым глазам. Нам надо было бы упасть друг другу в объятия, прижаться, выплакаться, положив голову друг другу на плечо – ничего этого не было.
Катя открыла глаза и взглянула на меня откуда-то издалека. Она будто не сразу меня увидела, а когда увидела, то во взгляде ее не появилось ничего, кроме ненависти. Она вырвала свою руку и закричала: