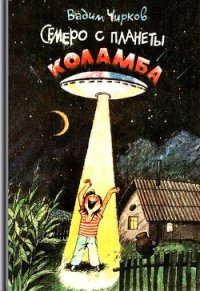А было все так… - Чирков Юрий Иванович (читать книги онлайн полные версии TXT) 📗
В начале сентября приказ был подписан, и в один прекрасный день в совхоз «Ухта» прибыли Ясенецкий и Флоринский. Через несколько дней они и Смирнов получили пропуска и явились к ответственному руководителю – профессору Мацейно. Радость моя была безгранична. Вскоре им оформили итээровские пайки и прикрепили к нашей столовой. Появился наконец черный верткий грек Пастианиди. Гидрометслужба начала работать. Начались наблюдения за уровнем и определение расхода воды реки Ухты.
К началу заморозков развернулись микроклиматические наблюдения над температурой почвы на различных почвах и формах рельефа в целях изучения интенсивности заморозков. Пункты наблюдений были разбросаны по полям опытной станции, а дороги в сентябре уже были грязными. В целях рационализации я раздобыл на этот период в совхозе верховую лошадку и с удовольствием раз в день объезжал участки, отсчитывая максимум и минимум температуры поверхности почвы.
В один из последних дней сентября, заканчивая объезд участков, я подъехал к производственному массиву опытной станции у торфяника. На поле копошились, выбирая картошку из оттаявшей после заморозка почвы, десятка три поляков. День был холодный, ветреный, сеял мелкий дождь. Сердце сжималось при виде этих несчастных, плохо одетых, мокрых людей. Они были совершенно не приспособлены к таким работам – все эти адвокаты, врачи, учителя, журналисты, офицеры. Они быстро опускались, доходили.
Мое внимание привлекло необычное поведение одного из поляков. Он встал с колен, несколько раз сильно встряхнул руки, с отвращением смотря на налипшую к ним грязь, затем, махнув безнадежно рукой, вытер ее о штаны, осторожно достал из кармана носовой платок и высморкался. Это был выдающийся поступок! Большинство воспитанных в прошлом людей, попав на общие работы, сморкались без помощи платка.
Я сразу же повернул лошадь к нему и спросил по-польски, кто он и откуда. Он был из Варшавы. Окончил гимназию. Перед занятием немцами Варшавы родители отправили его в тыл, в Гродно, к дяде, но Гродно было занято Красной Армией, и вскорости, в октябре 39-го года, его и дядю арестовали. Гимназисту дали восемь лет, дяде – десять лет. Я спросил, не офицер ли его дядя. Оказалось, что дядя его еврей и не мог быть офицером, а был зубным врачом. Про гимназиста я записал: Рабинович Иероним Самуилович, 19 лет, и пожелал ему «вшистскего добрего».
В конце дня я оформил заявку на Рабиновича – на заготовку дров для гидрометслужбы, и утром следующего дня умытый и побритый варшавский гимназист предстал пред наши очи. Как он обрадовался, увидев пред собой двух поляков: Мацейно и Ясенецкого. Как они заговорили! Я не все понимал и переспрашивал Иеронима. Богдан Ильич переводил. Родителям Рабиновича принадлежала прачечная с громким названием «Полония». Хотя они были небогатыми, но дали детям гимназическое образование, а Иероним поступал в университет, но началась война. Он рассказывал о бомбежках Варшавы, о бегстве на восток, в Гродно. Выяснилось, что, плохо зная русский, Иероним в Гродно неправильно назвал красноармейцев солдатами (тогда это наименование было оскорбительным), а его дядя не различал освобождение Западной Белоруссии от оккупации Восточных воеводств Польши, сказав где-то: «Если это освобождение, то что же тогда оккупация?» Так наивно рассказывал Рабинович о своем аресте и допросах. Смущаясь, он сказал, что били его не очень сильно, а срок объявили уже в лагере.
Иеронима приняли у нас очень дружелюбно. Он был хорошо воспитан, смышлен, старателен, аккуратен. Сначала на него каждый вечер подавали заявку в совхоз, а спустя месяц удалось устроить его постоянным рабочим, затем наблюдателем гидрометрического поста. Мы его быстро откормили, он окреп и стал улыбаться, но глаза его всегда были печальными. «Иудейская скорбь», как говорил он сам с печальной улыбкой.
К наступлению морозов у нас сложился дружный и трудоспособный коллектив. Профессор Мацейно как-то сказал, что он очень беспокоился вторжением незнакомых сотрудников, а теперь очень рад такой приятной компании и доволен, что столько хороших людей спасены от общих работ и подконвойки. А я подумал, что моя «защитная» специальность защищает уже не только меня.
ГОРЕСТНЫЙ РОМАН
В начале зимы 1940/41 года освободился Н.А. Макеев и уехал в Куйбышевскую область. С его отъездом ночные наблюдения на метеостанции пришлись на долю одного профессора Мацейно. Профессор Зворыкин хлопотал, чтобы мне разрешили переселиться из зоны на место Макеева, и наконец этот «режимный» вопрос был решен. К началу морозов я переехал на метеостанцию.
Жить вне зоны! По существу в черте города! Эта иллюзия свободы доставляла мне большую радость. К тому времени из нашего домика вывели в другой, более просторный дом лабораторию профессора Костенко. Одну из освободившихся комнат занял Зворыкин П.П. (это была его квартира), две другие передали нам. В одной из них обосновался я.
От рабочего помещения кровать моя отделялась драпировкой. Эта драпировка опускалась от потолка до пола широкими складками (как в старых замках). В неприсутственное время можно было ее раздвигать. В изголовье кровати была вмонтирована лампа и радионаушники. Я мог, задернув полог, лежа читать и слушать музыку. Комфорт!
Ночные метеонаблюдения (в час ночи) были закреплены за мной. Утренние (в семь часов) проводил Александр Иосифович. Поэтому я спал до восьми часов. В это время приходил Рабинович и начинал растапливать печи. Через полчаса вваливались промерзшие на пути от зоны совхоза до станции Богдан Ильич, Лев Флоринский, Смирнов, Пастианиди. Начинался рабочий день. Пастианиди и Рабинович отправлялись на гидрометрический пост за опытным полем, где я обычно купался в летние дни. Там они измеряли уровень воды в реке Ухте и скорость ее течения, опуская в проруби вертушку Ласу. Лев обходил водомерные посты на реках Ухте и Чибью в городе. Он все еще не привык ходить по городу без конвоя и получал неизъяснимое удовольствие от этого.
Первый самостоятельный выход на посты в город Лев Андреевич описывал так: «Я иду, а все встречные смотрят на меня. Иные с удивлением, иные с улыбкой. У меня за поясом топорик, чтобы лед скалывать со свай на посту. Решаю, что это из-за топорика. Тогда я запрятал топорик под бушлат, а на меня по-прежнему смотрят внимательно, как будто узнают. Я некоторым даже кивал».
Вечером к нам зашел Гаврилов – начальник курсов – и спросил: какой это блаженный работает у нас? Идет по Ухте, словно влюбленный на первое свидание, улыбка до ушей, глаза сияют. Здесь таких счастливых лиц не увидишь – понятно, что все глаза пялят.
В начале декабря, когда начались сильные морозы (ниже 40 градусов), к нам заявился начальник управления. Огромный, под потолок, он рявкнул:
– Когда мороз лопнет?
Перепуганный шеф начал пространно говорить о вторжении арктических масс, об антициклоне. Бурдаков снова рявкнул:
– Сколько часов еще будет ниже 40 градусов? Производство стоит!
– Три, – прошептал Мацейно.
– Три часа? – переспросил грозный начальник.
– Дня, – пролепетал Мацейно. Начальство выругалось и приказало извещать его об изменении температуры.
– Может быть, направлять вам ежедневную сводку погоды? – неожиданно спросил я. Бурдаков буркнул:
– Давно надо было! – и, пристально взглянув на меня, вопросил: – А где галстук?
И, не дожидаясь ответа, исчез, крепко захлопнув дверь.
Я был поражен, что начальник запомнил инцидент с моим чудесным голубым галстуком, чуть не стоившим мне головы. Профессор Мацейно был расстроен перспективой ежедневно направлять сводку погоды. Остальные коллеги еще не пришли в себя от лицезрения грозного начальства и молчали.
Давно известно, что инициатива наказуема. Шеф приказал мне выяснить, как оформлять эту несчастную сводку, какую информацию включать в нее, кем подписывать, как доставлять и т. п. Я позвонил профессору Зворыкину. Тот рекомендовал позвонить в плановый отдел управления, где клерки, убоявшись страшного адресата, отфутболили меня к начальнику планового отдела Болдыреву. Тот велел принести проект сводки.