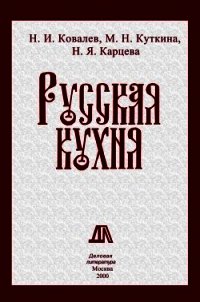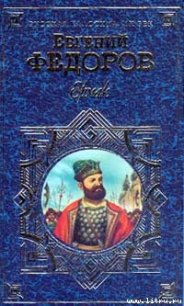Шелихов. Русская Америка - Федоров Юрий Иванович (книги бесплатно без онлайн txt) 📗
— Тпру, залётные!
Лошадки встали, вздымая потные бока.
— Что, дядя, — спросил Шелихов стоящего с краю мужика в сермяжном кафтане, подвязанном лыком, — пожар, что ли, случился?
Мужик повернулся и, хмуро глянув в нахлёстанное ветром красное лицо проезжего, сказал голосом с трещинкой слёзной:
— Э, барин, война с басурманами. Ребятушек наших забрили в солдаты. — Лицо у мужика болезненно сморщилось, и он, плечом подвинув соседей, полез в толпу. Повернулся, сверкнул злой подковкой зубов: — Беда...
Григорий Иванович услышал бабий вой:
— Головушки бедные... Сложите вы косточки в землях чужедальн-и-х...
Мужики, стоявшие рядом с возком, отсмаркивались в полы армяков. Отводили глаза от проезжего.
— Барин, — нетерпеливо спросил ямщик, — поедем, что ли?
— Постой, — ответил Шелихов и слез с возка. Мужики подвинулись, уступая место незнакомому человеку.
Под ногами жидко хлюпала грязь, припорошённая снегом.
Шелихов проталкивался к центру толпы, а в голове одно было: «Война... Вот как, значит... Поломают мужиков, поломают». И ещё подумал с болью: «Тех самых мужиков, что так недостаёт на востоке, на землях новых».
Мужики оглядывались на него: кто-де, мол, таков? Смотрели неприветливо. А чего мужику радоваться: новый человек приехал, да ещё по-барски одетый, и ждать от него доброго трудно. Теснясь, ворчали:
— Куды прёшь-то?
А кто-то вовсе зло сказал:
— В шею бы надо...
Шелихов оглянулся, ища глазами сказавшего эти недобрые слова, но мужики сомкнулись стеной и смотрели нехорошо, выставив бороды. Толпа — хотя бы и тысячу людей собрались вместе али поболе ещё — имеет одно лицо. Доброе ли, злое ли, но одно. Толпа на улице забытой богом деревеньки плохо смотрела на проезжего человека. Лицо такое хорошего не обещает, и Шелихов это понял. Отвернулся. Обидчика искать не стал. «Тошно мужикам, — только и подумал, — чего уж мне лезть на рожон».
У волостной избы под соломенной клочкастой крышей стояло с десяток парней. На крыльце возвышался мордастый староста, обозначавший своё должностное положение засунутыми за пёстрый шерстяной кушак руками. Над головой его из волокового оконца полз белый дым. Избу волостную топили по-чёрному. Видать, волость небогато жила.
Староста, угрожая кому-то, тряс изрытым оспой лицом, тыкал в толпу растопыренной пятерней.
— Мужики! Мужики! — пытался он перекричать бабий вой.
Парни стояли на миру неловко, не зная, куда деть руки-ноги. Гнули головы. Неловко им было на людях. Не привыкли, чтобы на них таращили глаза. Такой вот одно и скажет: «Да мы ничаво...»
Пирогов насовали парням в котомки, портяночки они надели победней, лаптёшки подырявее — новые-то в хозяйстве сгодятся, а там казённую обувку дадут — и поведут их, поведут, как скотину убойную. А сколько бы доброго наворочали они руками своими, сколько бы для жизни хорошего сделали. А тут только и скажешь: «Ничаво...»
Другого-то не дано.
Один, отчаянный, видать, самый, на телегу полез, рванул на груди армяк, вытянул шею коричневую тощую, с болтающимся на ней крестом оловянным. Крест в глаза кольнул, как огненная искра. Парень рот разинул и крикнуть, наверное, хотел что-то, но получилось у него только хриплое:
— Э-э-э!
Тут его за полу и стащили:
— Не балуй, малый!
Староста качнулся на крыльце, переступил косолапо, махнул рукой — айда-де, хватит. Засуетился бестолково, затопал по гнилым доскам.
А лицо толстогубое и у старосты кривилось нерадостно, хотя и пьян был он дюже. Тоже мужик, староста-то, хотя и над другими поставленный начальством. Видал, знать: поскучнеют деревни, коли парни молодые уйдут, наголодуются. Чего уж веселиться?
Бабы завыли громче.
Вперёд выступил поп в рыжих изброженных сапогах, выглядывающих из-под ветхой рясы. Поднял над головой крест. Возопил гнусаво:
— Господи! Даруй воинству нашему побе-е-е-е-ду над супостатом... — Воинство полезло на худую телегу. Староста стегнул коней. Скрюченными, желваковатыми пальцами сжимая крест, поп тянул руку повыше: — По-бе-ду-у-у и одоление!..
Телега, заскрипев, покатила в улицу. Толпа бросилась следом.
Поп опустил крест, отсморкался и, взглянув на Шелихова старческими слезливыми глазами, сказал:
— На страдания рождается человек, как искры, чтобы устремляться вверх... Так-то...
И, завернув крест в полу рясы, пошёл к церкви. Старый, согнутый и, видно было, ненужный сейчас никому.
Староста, руки расставив, расталкивал народ у волостной избы.
— Давай, ребятушки, — уговаривал неуверенным голосом, — так начальство распорядилось. Оно спросит...
Мужиков пожалев, Григорий Иванович и о другом подумал: «Не ко времени в столицу еду». Но за спиной лежали тысячи вёрст, да и не с пустыми руками он ехал. Ни много ни мало, а приведённые под корону державы Российской земли вёз и надеялся — ехать может смело. Да и не по-шелиховски было возвращаться с половины дороги.
Отвернули от схода тележку, и ямщик взмахнул кнутом. Тележка побежала бойко. За деревней, на открытом месте, морозец покрепче землицу прихватил, и колёса пошли по гладкому.
— Эй, эй! — прикрикивал ямщик. — Шевели копытами, волчья сыть!
А у Григория Ивановича всё бабий вой в ушах стоял скорбный.
Ямщик повернул к нему рябое лицо:
— Что заскучал, барин? — И, не дождавшись ответа, добавил: — Мужиков пожалел? А ты не жалей. Мужик в России как трава растёт. Вытопчут, другая поднимется. — Взялся за кнут и опять глаза на седока скосил: — Россию-то матушку, как овцу, стригут... А то что ж — забалуют ещё мужички...
Шелихов промолчал.
Ямщик поднял кнут и ударил коней.
— Эй, эй! — крикнул. — Весёлые!
В голосе у ямщика что-то дикое прозвучало.
Кони пошли намётом.
Путь до Питербурха труден, но Шелихов успел окрепнуть после похода и поднабрать сил. Правда, лицом потемнел и в глазах у него появилось новое: тяжелее, пристальнее глаза стали, ну да на каком лице вёрсты пройденные и годы прожитые следа не оставляют? Оно, конечно, бывает и так: ведомо — человек прожил столько, что и двум бы хватило, а он, как отрок, и ногами взбрыкивает. Но да то люди из тех, что пороху не выдумают и за все прожитые годы рук не обмозолят. Говорят — человек хороший из одного мешка два помола не делает, а такой вот, с личиком розовым, норовит не два, а три выкрутить. Но Григорий Иванович не из этих был — вот лицом и потемнел. А так по-прежнему в движениях размашист и голосом не робок. Да и глаз не отупел у него, не налился белой, незрячей мутью.
Ехали по Сибири, голову чуть не отвертел. И не впервой ехал-то дорогой этой, но, видать, ранее моложе был, рот только разевал от удивления, а сейчас вошёл в зрелость, и земля по-другому ему себя показывала.
Богатющие земли лежали вокруг. Смотрел: вон поля раскинулись и ни конца им и ни края. Травы волнами ложатся под ветром. Да и травы какие! Человек на коне въедет, и не увидишь. Лес стоит: деревья неохватные, макушки упёрлись в небо. С ветки на ветку прыгает белка, распушив хвост. А другая, какая из игривых больно, и через дорогу махнёт, над конями пролетит рыжим платом. Кони всхрапывали, вскидываясь. Белки не счесть было в лесах. А реки, озёра — рыба плещет... А там вот птица косяком потянула, рядом второй косяк. Крылья свистят, голоса курлычут.
Как-то остановились у клина раскорчёванного и поднятого под хлеба. Григорий Иванович в пахоту руку запустил, и она по кисть как в пух ушла. Коричневато-чёрная земля легка была, рыхла, рассыпчата.
Мужик со стороны подошёл, глянул, как Григорий Иванович землю ласкает на ладони, сказал:
— Добрая земля — полная мошна.
— Да, — ответил Шелихов, — с такой землицы зерном обсыпешься...
Мужик улыбнулся.
Но ведомо было, что на земле в Сибири лишь половина богатства, а половина вторая под землёй лежит. Уголь, железо, золото, серебро. Наверное, и другого чего немало. Да кто знает, кто земли те копал? Так, только кое-где ковырнули.