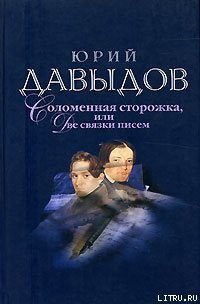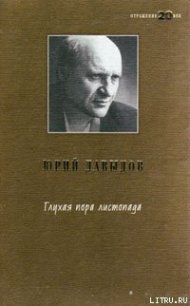Март - Давыдов Юрий Владимирович (полные книги .TXT) 📗
Заготовив об этом всеподданнейшую записку, Петр Александрович, радуясь доброй погоде, поехал на Мойку, к Лорис-Меликову.
У Михаила Тариэловича внезапно обострился бронхит. Он кашлял, кутался в плед, но, когда доложили о визите Валуева, велел поскорее просить Петра Александровича.
Они уже обменялись обычными, ничего не значащими любезностями, они уже уселись, но тут… тут словно бы выгнул оконные стекла тяжелый глухой удар.
Валуев вздрогнул:
– Кажется, покушение?
– Невозможно! – вскрикнул Лорис и прижал руки к груди.
Как всякий арестованный, Желябов некоторое время чувствовал себя оглушенным. Мысли его были несвязными и пустяковыми. По дороге из градоначальства в Дом предварительного заключения Андрея охватила такая бешеная, такая слепая злоба, что впору было зубами скрежетать, и он, кажется, скрежетал. Была ужасная, нестерпимая насмешка в этом аресте накануне воскресенья.
Он знал: все готово. Он знал: его заменят. И все-таки, запертый в этой опрятной сухой камере, он не мог отвязаться от мысли, что без него все рухнет. Он твердил самому себе: ты хоть и главный участник, но есть Соня, есть метальщики, есть Волошин и Кибальчич, есть сырный магазин… В десятый, в сотый раз с той маниакальностью, какая бывает в тюрьме и в сумасшедшем доме, перебирал он доводы «за» и «против».
Голова его была тяжелой, в ушах звенело. Он едва дождался воскресного утра. Не притронулся к завтраку. Часы у него покамест не отобрали, железные часы с цепочкой; он не сводил с них глаз.
Перед обедом Желябова вывели на прогулку. Он не видел голубизны неба, не слышал ни слабого запаха талого снега, ни щелчков капели. Стоял посреди тюремного дворика. Ждал.
Уже заскрипела дверь прогулочного загона, и прыщавый надзиратель сделал сумрачный жест ключом, приглашая заключенного в камеру, и Желябов, помешкав, уже сунул руки в карманы пальто и шагнул к калитке, когда вдалеке тяжело и глухо прокатился взрыв.
С пятницы будто переставили рычаги времени, рывками оно ринулось: утро – вечер – ночь – утро… Без приметных переходов. И стало плотным, как река, когда плывешь под водой.
Поздним вечером, в пятницу, на Вознесенский проспект, где теперь сходились члены Исполнительного комитета, пришла Перовская и сказала, что Андрей не вернулся домой. Она сказала об этом высоким ломким голосом. Лицо у нее было неподвижное.
Не арест Желябова – этот ее голос ударил Волошина в душу. В комнате заговорили взволнованно, негромко, перебивчиво, как-то робко подступая к Софье, но Денис не слышал, о чем говорили товарищи. Он смотрел на Сонины руки с узкими запястьями, на ее пальцы, которые были в непрестанном движении, и ему на мгновение вспомнилось, как рождественской ночью Софья с Андреем, осыпанные блестками снега, озаренные уличным фонарем, уходили об руку к себе домой и как он тогда ощутил что-то похожее на зависть и колкую неприязнь к Желябову.
Денис вполуха слышал, о чем шла речь, слышал, как Софья, несвойственным ей высоким и ломким голосом повторила желябовское: «Если царь будет убит, я удовлетворенным взойду на эшафот».
Денис подумал: заменю Желябова… Но он все еще не сводил глаз с Сониных рук и не мог понять, что с ним происходит. Одно он сознавал ясно, хотя как бы издалека: арест Желябова – невосполнимая потеря для комитета, для организации, но это… это не его, Волошина, личная потеря. Когда взяли Сашу Михайлова, он чувствовал физическую боль, как при пулевом ранении в Черногории.
Не арест Желябова, но Соня, ее мучающиеся руки с узкими запястьями… Денис поднялся. Он хотел просить товарищей дать ему исполнить то, что должен был исполнить Желябов. Но, поднявшись, встретился взглядом с Перовской, и у него мелькнула мысль, что она догадалась, как он принял известие об аресте Андрея.
– Я все сделаю за него, – медленно, как бы даже с угрозой сказала Перовская. – Я, и никто больше.
– Что? Как? – бессмысленно переспросил Денис, и вдруг, словно пойманный с поличным, густо покраснел.
С той пятницы переменилась скорость времени. Всё, кроме воскресного покушения, – всё прочее отодвинулось, отошло в сторону, одно осталось – неотвратимо надвигающийся день, первый день марта.
Неделю назад, ничего не сказав ни Желябову, ни Перовской, ни другим членам комитета, Денис окончательно уговорился с солдатами Алексеевского равелина, и они обещали провести «их благородие» в крепость. А теперь Волошин даже позабыл предупредить приятелей с Малой Пушкарской, чтобы они его не ждали.
В ночь на воскресенье Денис был у Кибальчича. В мастерской плавал душный и острый запах динамита. Окна были плотно занавешены. Казалось, нет ничего в мире. Только овальный стол со слесарными инструментами, лишь металлическая хмурь метательных снарядов.
Кибальчич работал без устали. Лицо его, всегда спокойное и как бы флегматичное, пылало. Он только приказывал: дайте то-то, возьмите это, делайте так-то. Ему повиновались мгновенно. Никто за всю ночь не затянулся папиросой.
Была лампа над столом, был овальный стол, инструменты. Были бомбы. Стлался по комнате душный острый запах динамита.
Бомбы завернули в куски коленкора. Получились свертки точь-в-точь такие, в каких модистки разносят заказы.
Метательные снаряды забрала Софья.
– Я буду ждать в кофейне, – сказал ей Волошин. И поспешно прибавил: – После, после того… И отвезу к Гесе.
И вот он на Невском. Щегольское пальто офицерского покроя, котелок, тросточка.
Сверкала капель, били копыта, шаркали, шаркали сотни ног.
До смерти хотелось есть, мутило от голода, почти сутки ничего не ел. По обеим сторонам проспекта были ресторации, кофейни, кондитерские, но он и не подумал, что может туда зайти.
Денис слонялся у Гостиного двора, у башни с часами, близ Казанского моста. У него был больной вид, на него озирались прохожие.
Он не замечал ничего.
К нему привязался канканный мотивчик. Денис слышал его на Приморском бульваре в Одессе, когда закончил свои «динамитный рейс». Мотивчик жужжал, Денис потряхивал головой, но дурацкое «ли-ля-ля, тру-ру-ру, ля-ля» не уходило, жужжало, мучило.
«А, чтоб тебя», – сморщился Денис и обмер: на Екатерининском канале резко треснул взрыв.

Жеребцы ошалело вздыбились. Кто-то закричал, кто-то рухнул в снег. Черная едкая туча заволокла карету, набережную, каменную стену Михайловского сада.
Секунду-другую туча висела мороком. Эхо взрыва, дробясь о фасады домов, умирало в жалобном дребезжании стекол.
И вдруг откуда-то вынырнул Рысаков.
– Держи! Держи! – вопил он, со всех ног бросаясь к Невскому.
Рысаков знал, что городовой и пристав, торчавшие на Театральном мосту, заметили его, заметили и узелок в его руках. Теперь узелка не было: бомба была брошена под колеса кареты. И он бежал, вопил.
Из ворот выскочил дворник, швырнул лом, как рюху, и Рысаков, присев от боли, завертелся волчком. На него с ходу шмякнулся подоспевший городовой.
Грязный, с прожелтью дым волочился по булыжнику, цеплялся за решетку канала. Задок кареты был разворочен – пружины, войлок, кожа свисали и топорщились.
Полковник Дворжицкий, оглушенный, с дергающейся окровавленной щекою смотрел ничего не соображая, как отворилась дверца с осколками зеркального стекла, как показался лакированный сапог. В гудящем сознании полицмейстера мелькнуло: «Вывеска», – ему почудилась вывеска сапожного мастера.
Из кареты вылез император. Его пьяно шатало. Медленно, как гирю поднимая, он перекрестился.
– Преступник?
– Схвачен, ваше величество… – Полковник всхлипнул. – Государь… в мои сани. Надо во дворец. Государь, умоляю… Опасно…
– Хорошо… Еду… – Александр тупо глядел на толпу, на спешившихся конвойных. – Но прежде… Где он?
Капитан Кох с обнаженной саблей держал за шиворот Рысакова: драповое пальто растерзано, клетчатое кашне сбилось, лицо в кровавых ссадинах.