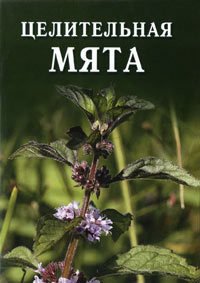Тилль - Кельман Даниэль (читать бесплатно полные книги TXT, FB2) 📗
Становится не продохнуть. В лицо врезаются камни. Он извивается, но что толку, Зепп вдвое старше него, втрое тяжелее и впятеро сильнее. Он заставляет себя замереть, чтобы не тратить зря воздух. На языке вкус крови. Он вдыхает грязь, давится, выплевывает. В ушах у него свистит и звенит, и земля колышется — вверх, вниз, снова вверх.
Наконец тяжесть исчезает. Его переворачивает на спину, рот полон земли, глаза слиплись, голову сверлит боль. Зепп тащит его к мельнице: по гальке и земле, по траве, опять по земле, по острым камням, мимо деревьев, мимо смеющейся батрачки, мимо сарая с сеном, мимо козьего загона. Потом вздергивает его на ноги, открывает дверь и вталкивает его внутрь.
— Наконец-то, — говорит Агнета. — Печь сама себя не почистит.
Если идти от мельницы к селу, проходишь через рощу. Оттуда, где деревья редеют и начинаются угодья — луга и пастбища, и поля, треть под паром, две трети засеяны и окружены деревянными оградами, — уже видно верхушку колокольни. Кто-нибудь вечно лежит здесь в грязи и чинит одну из оград, они все ломаются да ломаются, а ломаться им нельзя — либо скотина уйдет, либо лесные твари набегут, сожрут и затопчут зерно. Большая часть полей принадлежит Петеру Штегеру. И большая часть животных тоже, это сразу видно — на шеях его клеймо.
Когда входишь в деревню, первым делом видишь дом Ханны Крелль. Она сидит на крыльце, латает чужую одежду, а что ей еще делать, уж так она себе на хлеб зарабатывает. Дальше пробираешься через узкий проход между подворьем Штегера и кузницей Людвига Штеллинга и проходишь по деревянному мостку, чтобы не провалиться в мягкий навоз — по левую-то руку хлев Якоба Крена, — и вот ты уже на главной и единственной улице: здесь живет Ансельм Мелькер с женой и детьми, рядом с ним свояк его, Людвиг Коллер, а потом Мария Лозер, у которой муж в прошлом году помер, порчу на него навели; дочери ее семнадцать, красавица, выходить ей за старшего сына Петера Штегера. По другую сторону дороги живет Мартин Хольц, он с женой и дочерями печет хлеб, а дальше домишки Таммов, Хенрихов и еще Хайнерлингов, из чьих окон вечно слышно, как они собачатся; Хайнерлинги — люди негодные, нет им уважения. У всех, кроме кузнеца и пекаря, есть немного земли, у всех есть пара коз, а вот коровы есть только у Петера Штегера — он богатый.
Потом выходишь на площадь с церковью, старой липой и колодцем. Подле церкви стоит дом пастора, рядом — дом окружного управителя, это Пауль Штегер, двоюродный брат Петера Штегера, дважды в год он обходит поля и каждый третий месяц относит подати землевладельцу.
За площадью стоит забор. Если открыть ворота и пройти через широкое поле, тоже штегеровское, снова попадешь в лес, и если не бояться Стылой и идти все дальше и дальше, и не заблудиться в подлеске, то за шесть часов доберешься до двора Мартина Ройтера. Если там не покусает собака, если и дальше идти вперед, через три часа придешь в следующую деревню, немногим больше.
Но там мальчик не бывал. Он никогда нигде не бывал. И хотя несколько человек, где-то бывавших, говорили ему, что там все то же, он никак не мог перестать думать о том, куда попадешь, если просто идти и идти — мимо следующей деревин и все дальше, и дальше, и дальше.
Во главе стола сидит мельник и говорит о звездах. Жена и сын, и трое батраков, и батрачка делают вид, что слушают. На столе каша. И вчера была каша, и завтра будет — иногда пожиже, иногда погуще; каждый день на столе каша, и только в плохие дни вместо каши ничего. Плотное окно защищает от ветра, под печью, которая греет еле-еле, возятся две кошки, а в углу лежит коза, которой место за стеной, в хлеву, но никто не берется ее выставлять — все устали, а рога у нее острые. У двери и вокруг окна выцарапаны пентаграммы против злых духов.
Мельник рассказывает, что ровно десять тысяч семьсот три года, пять месяцев и девять дней назад загорелся водоворот в сердце мира. И теперь вся эта вещь, миром называемая, вертится веретеном и порождает звезды, и никогда не перестанет, ведь раз у времени нет начала, то нет и конца.
— Нет конца, — повторяет он и осекается; заметил, что сказал непонятное. — Нет конца, — произносит он тихо, — нет конца.
Клаус Уленшпигель родом из других мест, с лютеранского севера, из города Мёльна. Десять лет тому назад пришел он сюда уже не очень молодым и, так как был из чужих краев, стать смог только батраком мельника. Мельником быть не так зазорно, как живодером, что убирает трупы издохшей скотины, или ночным сторожем, или вовсе палачом, но мельник ничем не лучше поденщиков и куда хуже ремесленников с их гильдиями или крестьян, которые такому как Клаус и руку не подавали. Но потом дочь мельника пошла за него замуж, а вскоре мельник умер, и теперь он сам мельник. Еще он лечит крестьян, которые и сейчас не подают ему руки — уж что негоже, то негоже, — но когда у них что-то болит, приходят к нему.
Нет конца. Клаус замолкает, слишком бурно роятся мысли у него в голове. Как это время может взять да остановиться! С другой стороны… Он трет голову. Ведь началось же оно когда-то? Если бы оно никогда не начиналось, то как бы оно добралось до этой вот минуты? Он оглядывается по сторонам. Не может же быть, чтобы уже прошло бесконечно много времени. Значит, когда-то оно все-таки началось. А что было до этого? До времени? Голова кругом. Как в горах, если заглянуть в расселину.
Однажды, говорит Клаус, видел он такое, в Швейцарии это было, его тогда сыродел взял в помощники — гнать стадо на горное пастбище. На коровах висели колокольчики, большие такие, а сыродела звали Рюди. Клаус сбивается, потом вспоминает, что хотел сказать. Так вот, заглянул он в расселину, а она до того глубокая, что дна не видать. Он и спрашивает у сыродела — а звали его Рюди, странное имя, — спрашивает, значит, у Рюди, какой глубины расселина. А Рюди ему и отвечает, медленно так, будто его усталость одолела: «Бездонная».
Клаус вздыхает. В тишине слышно, как скребут ложки. Вначале-то он решил, что быть такого не может, продолжает он, что сыродел все врет. Потом подумал: «Вдруг эта расселина — вход в ад?» А уж после понял, что, как бы с той расселиной ни было, есть и другая: если вверх посмотреть, то там ее непременно увидишь, пропасть-то бездонную. Клаус чешет тяжелой рукой в затылке. Пропасть, бормочет он, пропасть, что нигде не кончается, не кончается вовсе, нигде и никогда, и в ней случается все, что случается в мире, и все это не заполняет даже и малой толики ее глубины, в сравнении с которой все ничтожно… Он проглатывает ложку каши. Прямо мутит от этой мысли так же, как муторно на душе становится, когда поймешь, что числа никогда не кончаются. Ведь к любому числу можно еще одно прибавить, будто и нет Господа в небесах, чтобы положить конец этому бесчинству. Еще и еще! Числа без конца, пропасти без дна, время до времени. Клаус мотает головой. А если…
Тут Зепп вскрикивает. Прижимает руки ко рту. Все смотрят на него с удивлением, а прежде всего с радостью, что мельник умолк.
Зепп выплевывает пару коричневых камушков. Выглядят они точно как слипшиеся комочки каши. Нелегко было их подсыпать в миску так, чтобы никто не заметил. Такие дела требуют подходящего момента, а если момент не подворачивается, приходится самому потрудиться: еще когда только сели за стол, мальчик пнул батрачку Розу по ноге, а когда она вскрикнула и назвала его гнусной крысой, а он в ответ назвал ее коровой страхолюдной, а она назвала его грязи куском, а его мать сказала, чтобы они прекратили прямо сейчас, Христа ради, а то сегодня без еды останутся, — вот в этот самый миг он быстро потянулся вперед и уронил камушки в миску, пока все глядели на Агнету. Подходящий момент пролетает быстро, но, если смотреть в оба, можно его поймать. Тогда хоть единорог по дому пройди, никто не заметит.
Зепп щупает во рту пальцем, выплевывает на стол зуб, поднимает голову и смотрит на мальчика.
Это плохо. Мальчик был уверен, что Зепп не догадается. Но, похоже, тот все-таки не настолько глуп.