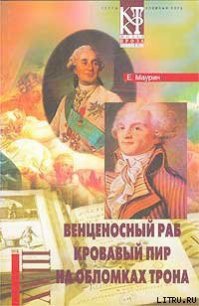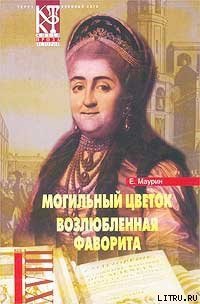На обломках трона - Маурин Евгений Иванович (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
– И ведь, исходя из этого, Суворов полагается главным образом на холодное оружие, а артиллерия у него на заднем плане? – спросил Бонапарт.
– Пожалуй, что и так, гражданин генерал, – ответил Гаспар. – Недаром Суворов постоянно твердит, что «пуля – дура, штык – молодец»! Он находит, что самый лучший стрелок, самый искусный канонир могут ошибиться, промахнуться, тогда как штыковой удар в руках надлежаще обученного солдата безошибочен.
– Вот-вот! – воскликнул Бонапарт, глаза которого засверкали радостью и волнением. – У каждого великого человека имеется свой слабый пунктик, и это то больное место Суворова, на котором я мог бы построить его разгром и свою славу! О, если бы судьба привела меня столкнуться в великом бою с этим гениальным стратегом! О, если бы хоть случай развязал мне руки, если бы я мог свободно взмахнуть крыльями, мощь которых я так отчетливо сознаю! Но я связан, задыхаюсь в тесной клетке бездеятельности! О, как ужасно вечно гореть, вечно пламенеть, чувствовать себя призванным к великим делам, сознавать свою силу осуществить великие замыслы и не иметь возможности, случая доказать свою мощь! Бездарный идиот Шерер губит все французское дело в Италии; я разработал ясный документальный план военных действий, представил его Карно с мотивированной докладной запиской, из которой видно, как дважды два – четыре, что этот план не может не привести к полному торжеству, понимаешь: не может! А эта старая лошадь отвечает мне, что я представил какой-то больной бред вместо плана. Но в том-то и мое несчастье, что меня судят те, кто неспособен быть моими судьями! Как смеет Карно брать на себя решение? Он – талантливый инженер да хороший администратор, пожалуй, но он – не стратег! А я – стратег! Дайте мне случай, дайте мне возможность, и я склоню весь мир под знамена свободной Франции! Я призван к этому, для этого я рожден. О, сознавать это и сидеть, медленно сгорая в пламени неутолимого честолюбия, не видеть исхода, упираться в глухую, инертную стену. Н-нет, я долго не выдержу! Я сгорю в этом костре!
– Да, честолюбие – опасная вещь, гражданин генерал! – тихо заметил Лебеф.
– Вздор! – крикнул Бонапарт. – Если ты говоришь так, значит, ты не знаешь, что такое – истинное честолюбие! Вот ты недавно сказал, что трагедия Робеспьера была в том, что судьба отвела ему неподходящую роль. А знаешь, чего не хватило Робеспьеру? Честолюбия! Если бы у него было честолюбие, разве он допустил бы, чтобы его повели, словно барана, на бойню? Ну как же! Ведь он уважал закон, он подчинился народу! Скажите, какая добродетель! Да разве закон – для всех? Закон обязателен только для рядовых людей, закон – узда для черни. А вождь сам создает законы. Но не вождь – тот, кто спутывает себя той же самой уздой, которую он взял в руки для обуздания масс! Вот в чем была ошибка Робеспьера, вот в чем была его слабость, Но он и не был призван для великих дел: у него не было честолюбия, этим сказано все! Знаешь, что такое был Робеспьер? Вот стоит дом, из которого выгнали хозяина, и стоит этот дом в разгроме и мерзости запустения. Тогда приходит лакей и метет лестницу для нового хозяина, которого он не ведает, часа прибытия которого он не знает. И, когда следы разгрома убраны, когда вычищена грязь и паутина, когда заметена и устлана коврами лестница, лакей уходит. Он сделал свое дело, он не нужен. Вот этим лакеем и был Робеспьер! Он очистил путь новому хозяину, его роль была кончена. Однако хозяин все не идет. Почему? А потому, что этим хозяином может стать каждый, у кого найдется достаточно честолюбия, но именно честолюбия-то нет ни у кого! Может быть, ты думаешь, что оно есть у Барраса, у Ларейвельера, у Ревбеля, у Летурнера, у Карно? О, если все мерить их мелким, низменным честолюбием, то мне и желать нечего! В двадцать шесть лет я – генерал, я оказал важную услугу отечеству, мое имя у всех на устах! Сейчас нет в Париже человека популярнее генерала Вандемьера! Но плохо знают меня те, кто думает, что я могу удовольствоваться славой ловкого полицеймейстера! Неужели Бонапарт годен лишь на то, чтобы усмирять мятежный сброд? Неужели этот пронизанный пламенем мозг только и годится для того, чтобы восстанавливать порядок за тех, кто сам не в состоянии оградить свою власть? О, развяжите мне руки, освободите мои крылья, и я смело и гордо войду в дом, который уже стосковался без истинного хозяина! Я пронесу свое имя через весь мир, я кину его на расстояние сотен веков, я…
В дверь постучались. Бонапарт оборвал свою пламенную тираду на полуфразе, с каким-то недоумением осмотрелся вокруг и крикнул:
– Войдите!
Дверь открылась. Вошел Тальма.
– Здравствуй, милый мой Наполеон! – ласково сказал великий трагик. – А ты опять уже оседлал своего любимого конька и понесся на нем в заоблачные сферы? Твой голос разносится далеко вокруг. Но я к тебе на минутку. Ты просил… Вот пустячок…
Тальма сунул что-то в руку Бонапарту, но тот неловко взял протянутое, и три золотых монеты, звеня и подпрыгивая, раскатились по полу.
Бонапарт с веселым смехом подобрал их, кинул на стол и подошел к Тальма, чтобы сердечно обнять друга. Теперь молодой генерал сразу переменился. Исчез фанатический мечтатель, исчез пламенный, властный честолюбец; все огненное, резкое, знойное рассеялось неведомо куда, и перед Лебефом стоял теперь немного заносчивый, немного наивный, скромный офицерик, на бледном лице которого играла обаятельная улыбка.
– Да, да, гражданин Лебеф! – смеясь сказал Бонапарт, весело подбрасывая над столом золотые монеты. – Вот они, вечные контрасты жизни! Сидишь, бывало, и упиваешься гордыми мечтами, побеждаешь в грезах весь мир, утопаешь в славе, а потом очнешься от мечтаний и примешься замазывать чернилами дырки на сапогах. Да! Если бы не друг Тальма, я, наверное, умер бы с голода. Ах, я и не знаю, как и благодарить тебя, дорогой мой, за эти деньги! Мне необходимо быть на вечере у Барраса, но как я ни равнодушен к вопросам туалета, а тут уж пришлось серьезно задуматься!
– Ничего, Наполеон, жди и верь! Твое время придет, и настоящее минет, как сон! Уже теперь тебе далеко, не так плохо, как несколько месяцев тому назад. Я знаю, что в бедности много унизительного, и твердо верю, что будущее с лихвой окупит тебе все теперешние унижения!
– Унижения! – с добродушной презрительностью повторил молодой генерал. – Полно, милый Тальма, к этому я совершенно равнодушен. Я не жаловался бы и теперь; ты знаешь, каким малым довольствуюсь я для себя лично, но ребятишки!.. – Бонапарт обернулся к Лебефу, и опять обаятельная улыбка заиграла на его лице, когда он пояснил: – Ведь у меня четыре брата и три сестры; только один брат на год старше меня, а то все малыши, неоперившиеся птенчики от девятнадцати до одиннадцати лет! Отца давно нет в живых, я один – их опора. Вот мне и больно, и обидно, что я не в состоянии в достаточной мере обеспечить их, хотя по своим знаниям, способностям и уже доказанной пользе, принесенной отечеству в ряде боев, имел бы полное право требовать этого от правительства. Моя нищета обидна, как показатель несправедливости правительства, ну, а что касается ее унизительности, то к этому я отношусь довольно равнодушно. – Взор Бонапарта сверкнул лукавой иронией, когда он весело продолжал: – Вот знаете ли вы, например, как мне пришлось быть с визитом у этой распутницы Тальен? Как же, интересный был визит! Я просто задыхался, даже не от бедности, а от настоящей нищеты. Куда я ни толкался, никто не хотел меня знать. И вот тогда я уже совсем решился уехать на службу к турецкому султану. Вдруг Фрэрон надоумил меня сходить поклониться Терезе Тальен, которая вертит Баррасом, как хочет. Ну, я и задумываться не стал! Пусть Тереза – подлейшая из распутниц, но раз она – сила, разве моя гордость пострадает от того, что я хотя бы через ее посредство добьюсь части того, на что имею право? Вот еще! Я слишком высоко ценю себя, чтобы это могло меня унизить! Ну-с, надел я вытертый, штопаный походный мундир, как можно осторожнее натянул сапоги – они легко могли развалиться, а от подошв на них вообще остался один намек, подмазал дырки чернилами, да и отправился в салон к самой модной даме Парижа. Ну, Тереза – умная баба. Она была польщена, сделала вид, будто не замечает моего убогого вида, расспросила, обещала обратить внимание директоров на то, что молодого и способного генерала оставляют втуне, и очень тактично и ловко сунула мне записочку в интендантство, чтобы мне выдали новое обмундирование. Это было незаконно, так как я не служил в действующей армии, а обмундирование полагается только на действительной службе, но… разве закон пишется для таких, как Тереза Тальен? Я был очень доволен, собрался уже уходить, как вдруг в гостиную вваливается целая толпа мервельезок и инкруаяблев [6]. Бог Ты мой! Словно я в стаю попугаев попал! Кривляются, картавят, трещат, ломаются, лорнируют друг друга. Смотрю я на них и глазам не верю. «Да кто же из нас с ума сошел, они или я?» – думаю. Вдруг один из этих господ обратил свое просвещенное внимание на меня, шепнул что-то своей соседке, та рассмеялась, другие франты в один голос воскликнули свое обычное: «Это пхосто невехаятно» [7], а один из идиотов направился прямо ко мне. Подошел этот франт, долго лорнировал мои дырки на сапогах и наконец спросил: «Послюште генехаль, это навехное – новая фохма нашей доблестной ахмии? И, конечно, – самая пахадная?» – «Нет, – ответил я, – это – боевая, походная форма, которую я носил на полях сражений, благодаря которым вы теперь можете беззаботно болтать и смеяться! Но я недавно прибыл в Париж, и потому вы простите, что я обращаюсь с вопросом и к вам тоже: скажите, пожалуйста, неужели теперь в добром, честном Париже в моде такие шуты, как вы?» Франт растерялся, хотел что-то сказать, не нашелся и ушел, кинув неизменное «это невехаятно!» Ну, так вы, может быть, думаете, что я почувствовал себя оскорбленным, униженным? Да ничуть не бывало! Я смеялся всю дорогу домой! Однако будет обо мне и о моих бедствиях! Слушай-ка, милый Франсуа, мне говорили, что ты опять имел безумный успех в «Нероне»?
6
«Мервельезка» (по-русски значит «великолепнейшая») и «инкруаябль» («невероятный») – прозвище модниц и модников времен директории. Эти «сливки общества» одевались с преувеличенной тщательностью, жеманились, манерничали, картавили. Отчаянный разврат и показное пресыщение жизнью были для тех и других признаками хорошего тона.
7
Частному употреблению слова «инкураябль» (т. е. «невероятно», слово произносилось с проглатыванием буквы «р»: «инкхуаябль») модники времен директории и обязаны своим прозвищем.