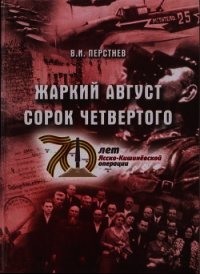Август - Уильямс Джон (онлайн книги бесплатно полные .txt) 📗
Под началом Цезаря Августа я способствовал возврату былого могущества Рима, за что Рим щедро вознаградил меня: трижды я был консулом, однажды эдилом и трибуном, дважды — наместником в Сирии и также дважды принимал печать Сфинкса из рук смертельно больного Августа. Я вел победоносные римские легионы против Луция Антония в Перузии, против аквитанцев в Галлии и германских племен на Рейне, однако отказался от торжественной церемонии в Риме, которой обычно удостаивают триумфатора; кроме того, я участвовал в усмирении мятежных племен и фракций в Испании и Паннонии. Август даровал мне звание главнокомандующего флотом; мы соорудили гавань к западу от Неаполитанского залива, тем самым защитив наши корабли от пиратских набегов Секста Помпея, которого мы впоследствии сокрушили в битве при Милах и Навлохе у берегов Сицилии; а меня за эту победу сенат увенчал титулом повелителя морей. В битве при Акции мы разбили изменника Марка Антония и вдохнули жизнь в обескровленное тело Рима.
В знак избавления от египетской измены я возвел храм, ныне известный как Пантеон, а также другие общественные постройки. В должности градоначальника при Августе и сенате я восстановил старые и построил новые акведуки, чтобы римляне всех сословий имели в достатке воду и не страдали от болезней. После того как порядок снова воцарился в Риме, я помогал в составлении карт мира, начатых еще в диктаторство Юлия Цезаря и законченных его приемным сыном.
Обо всем этом я поведаю подробнее по мере моего повествования, а сейчас я должен вернуться к началу описываемых событий, кои произошли через год после триумфального возвращения Цезаря из Испании, где были и мы — Гай Октавий, Сальвидиен Руф и я.
Да, я был с ним в Аполлонии, когда до нас дошла весть о смерти Цезаря…
II
Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (13 год до Р. Х.)
Прости меня, дорогой Ливий, за столь долгое промедление с ответом. Обычные сетования — похоже, удаление от дел никак не способствовало улучшению моего здоровья. Врачи лишь глубокомысленно качают головой, бормочут что–то невразумительное и исправно берут плату. Ничто не помогает: ни мерзкого вкуса порошки, которыми они меня пичкают, ни даже отказ от наслаждений, коим, как тебе хорошо известно, я так любил предаваться. Мне известно твое усердие и понятно, сколь важна для тебя моя помощь в деле, о коем ты меня просишь в своем письме, но в последние дни я совсем не мог держать пера в руке из–за подагры. К тому же помимо всех прочих моих болячек я уже несколько недель мучаюсь бессонницей, поэтому дни свои провожу в сонливой апатии. Одно утешает: друзья не оставляют меня да жизнь еще теплится в моем теле — и за это я благодарен судьбе.
Ты спрашиваешь меня о начале моей дружбы с императором, так знай, что всего три дня тому назад он соблаговолил навестить меня на одре болезни и я счел необходимым уведомить его о твоей просьбе. Он улыбнулся и спросил, прилично ли мне помогать такому неисправимому республиканцу, как ты, и затем мы стали вспоминать добрые старые времена, как и подобает людям в нашем возрасте. Он помнит все до мельчайших подробностей, даже лучше, чем я, дело которого ничего не забывать. Наконец я спросил его, не желает ли он послать тебе свое собственное описание событий того времени. На мгновение он задумался, устремив взгляд вдаль, потом снова улыбнулся и сказал: «Нет, в воспоминаниях императоров еще больше лжи, чем в трудах поэтов и историков». Он попросил передать тебе наилучшие пожелания и предоставил мне полную свободу писать о чем заблагорассудится.
Но что я могу рассказать тебе о тех днях? Мы были молоды, и, хотя Гай Октавий (так он звался тогда) уже знал, что судьба благосклонна к нему и что Юлий Цезарь намерен усыновить его, ни он сам, ни я, ни Марк Агриппа, ни Сальвидиен Руф — никто из его друзей не мог и вообразить себе, к чему все это приведет. Я, мой дорогой друг, не обладаю свободой в той мере, какая дана историку: ты можешь поведать всему миру о перемещениях отдельных личностей и целых армий, предать огласке хитросплетения государственных интриг, сопоставить поражения и победы, раскрыть даты рождений и смерти — и при этом оставаться свободным в мудрой простоте твоего труда, а не сгибаться, как я, под страшным бременем знаний, коими я не вправе ни с кем поделиться, но значение которых все яснее раскрывается мне с годами. Я знаю, ты ждешь от меня рассказа и, без сомнения, уже теряешь терпение, ибо я все никак не доберусь до сути. Но помни; я не только слуга империи, но и поэт и потому не могу обойтись без околичностей.
Ты будешь удивлен, если я скажу тебе, что не был знаком с Октавием до нашей встречи в Брундизии, куда я был послан, чтобы сопровождать его и группу его друзей в Аполлонию. Почему выбор пал на меня, до сей поры мне неведомо, но уверен — посредничество Цезаря тому виной. Мой отец, Луций, однажды оказал ему услугу, и за несколько лет до описываемых событий Цезарь посетил нас на нашей вилле в Ареции. Мы заспорили о чем–то (насколько мне помнится, я пытался уверить его в превосходстве поэзии Каллимаха [31] над стихами Катулла [32]); я вел себя заносчиво и непочтительно, оставаясь при этом (так мне казалось) весьма остроумным. Я был так молод тогда… Так или иначе, это его позабавило, и он еще немного побеседовал со мной. Двумя годами позже он приказал моему отцу отправить меня в Аполлонию в компании со своим племянником.
Должен признаться тебе, друг мой Ливий, — хотя ты, возможно, и не упомянешь этот факт, — что при нашей первой встрече Октавий не произвел на меня большого впечатления; я только что прибыл в Брундизий из Ареции и после десяти дней пути был измучен тяготами путешествия, пропылен с головы до ног и пребывал в весьма дурном расположении духа. Я нашел их на причале, откуда мы должны были отплыть. Агриппа и Сальвидиен тихо беседовали, а Октавий стоял немного в стороне, разглядывая небольшое судно, покачивающееся на якоре неподалеку. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания.
— Я Меценат; я должен был встретиться с вами на этом месте. Кто из вас есть кто? — сказал я нарочито громким голосом.
Агриппа и Сальвидиен посмотрели на меня с усмешкой и назвали свои имена; Октавий оставался недвижим, и я, усмотрев в его повернутой ко мне спине надменность и пренебрежение, заметил:
— А ты, должно быть, и есть Октавий?
Он обернулся, и я тут же понял свою ошибку, прочитав выражение отчаянной застенчивости на его лице.
— Да, я Гай Октавий. Мой дядя говорил о тебе.
Он улыбнулся и, подав мне руку, наконец поднял глаза и впервые посмотрел на меня.
Как ты знаешь, немало слов было сказано о его глазах — чаще всего в скверных стихах и еще более убогой прозе; он, верно, сыт по горло всеми этими метафорами и описаниями, хотя поначалу они тешили его самолюбие. Но даже тогда, при нашей первой встрече, они поразили меня своей глубиной и проницательностью — скорее голубые, чем серые, хотя дело не в цвете, а в свете, который они излучают… Вот видишь, и я туда же — начитался стихов моих друзей–поэтов.
Я, должно быть, отступил назад, точно не помню; одним словом, я был поражен и отвернулся в смущении; тут мой взгляд упал на корабль, привлекший внимание Октавия.
— Это и есть посудина, на которой мы поплывем? — сказал я, немного придя в себя и указывая на небольшое торговое судно не более пятидесяти шагов в длину, с прогнившей обшивкой на носу и заплатами на парусах. Пропитавший его тяжелый запах рыбы доносился даже до берега.
— Это все, что есть, как нам сказали, — ответил мне Агриппа с полуулыбкой. Я полагаю, он счел меня капризным франтом, ибо я был одет в тогу и носил перстни на руках, в то время как они были в одних туниках и без каких–либо украшений.
— Смрад будет невыносим, — заявил я.
— Я полагаю, оно направляется в Аполлонию за грузом соленой рыбы, — с серьезным видом произнес Октавий.
На мгновение наступила тишина, и тут я расхохотался; все остальные подхватили — и так мы стали друзьями.