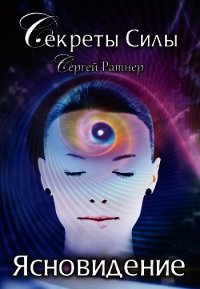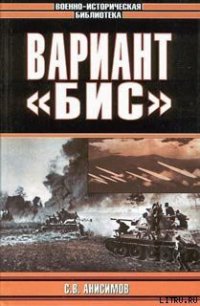Острее клинка (Повесть) - Смольников Игорь (читать книги TXT) 📗
У отца в кабинете висит ее акварельный портрет. Художнику удалось передать очень типичное для нее выражение затаенной грусти, доброты и усмешки. Глаза на этом портрете всегда смотрели прямо в душу Сергея. Он и любил его и, можно теперь признаться, побаивался в отрочестве из-за этого пристального взгляда.
Проходили годы, лицо матери старело а портрет не менялся.
Вспомнилось, как несколько лет назад мать подарила ему новую скрипку.
Отец не одобрял этого, странного для военного человека увлечения. А мать сама в летние месяцы занималась с ним.
Для Сергея в этой скрипке целый мир. Звуки помогали ему воскрешать в памяти самое близкое и дорогое. Если он утром хотя бы на пять минут не прильнет к своей скрипке, день проходит вяло, без вдохновения. Это трудно объяснить. Но ясные и чистые звуки скрипки всегда приводят его душу в необходимую для четкой работы настроенность.
Вечерами иногда заглядывает к нему Феликс Волховский. Сергей играет украинские песни.
Волховский слушает молча с печальным и строгим лицом.
О чем он в этот момент думает? О народе, который создал прекрасные мелодии? Об украинских степях, по которым он, как и Сергей, тоскует здесь в Петербурге? О своих родителях — небогатых дворянах, живущих в степном именьице неподалеку от Полтавы? Трудно сказать. У каждого из нас, помимо общих дел, свои заботы и воспоминания. У Феликса, у Сони, у Леонида, у Димитрия, у Петра…
Петр Кропоткин недавно появился среди чайковцев. Он был аристократ, из колена Рюриковичей, из легендарной старины, и в силу этого обстоятельства (как шутил Волховский) имел больше прав на русский престол, нежели сидевшие на нем господа Романовы. Но Петр Кропоткин страшно сердился, когда друзья даже в шутку величали его князем.
В кружок он подал обширную «записку», где писал, что царское правительство надо безжалостно уничтожить и что вообще всякое правительство вредно, а в будущем само общество— свободные общины крестьян и рабочих — станет заправлять всеми своими делами.
— Ну, хорошо, — говорил Сергей, — я думаю, ты прав. Когда дело касается одного человека или нескольких людей, вмешательство правительства бессмысленно. Но если на страну нападет враг? Что мы тут поделаем с общинами без армии? А ведь армия — элемент государства.
— Очень просто! — Кропоткин довольно поблескивал темными глазами. — Вооружается народ. Понимаешь, весь народ, как один. Я видел во Франции. Если бы не вооруженный народ — немцы раздавили бы Францию за неделю.
— Но там была армия?
— Нет, народ. Весь народ, я же тебе объясняю.
— Но он был как-то объединен, кто-то направлял его?
— Свободно выбранные люди.
— Значит, руководители были?
— Были. Но когда опасность отбита, армия должна распускаться.
— Но во Франции этого же не случилось.
— Там обстоятельства оказались сильнее. Немцы и своя буржуазия объединились против Парижа.
— Против Парижской коммуны?
— Да, против Парижа рабочих.
— А Парижская коммуна — это, по-твоему, тоже федерализм?
— Нет, в Париже было правительство. Но недостаточно крепкое.
— Ты сам себе противоречишь.
— В чем?
— Ты признаешь, что в Париже требовалось даже не простое правительство, а крепкое? И тогда бы рабочие устояли против своих врагов?
— Я же тебе объясняю, — горячился Кропоткин, и на его высоком лбу от переносья вырастали сердитые морщины, — в Париже случай был особый. Да и то, я уверен, со временем надобность бы в правительстве рабочих отпала.
— Тебе не кажется, — прищуривался Сергей, — что в истории каждый случай особый?
Кропоткин читал лекции рабочим, привлекая все больше и больше людей, но почему-то нимало не беспокоился о том, что его кружок существует в опасных условиях.
Эта близорукость в конце концов и сыграла с ним злую шутку.
Сергей знал каждого рабочего в своих кружках. Кропоткин имел смутное представление о том, кто слушает его лекции. А слава о ярком агитаторе росла с каждой неделей. Рабочие его любили: говорил он все-таки чертовски хорошо.
Однажды к Сергею пришел Халтурин и сказал:
— Предупредите Петра Алексеевича. Сегодня пусть не приходит.
— Что-нибудь случилось? — спросил Сергей.
— Кто-то наболтал жандармам.
— Значит, наступает и наша очередь? — Сергей посмотрел в холодноватые глаза Степана. — А у вас как?
— Пока тихо! Но я на своих фабричных могу положиться.
Сергей почувствовал в его словах упрек кропоткинской беспечности.
— Вы не беспокойтесь, — сказал он, — я сегодня же с ним повидаюсь.
Халтурин не стал посвящать Сергея в то, откуда у него эти сведения. В его отношениях с рабочими было нечто такое, что он ревниво оберегал от своих друзей-студентов. Сергей и не допытывался. Он верил Степану. Тот не стал бы с бухты-барахты поднимать тревогу.
Кропоткин на очередную встречу не пришел. А Волховский, совершивший прогулку в районе известной квартиры, наткнулся на фигуру серой наружности, которая, как и он, не спеша фланировала по улице.
Но жандармы были настойчивы. Через некоторое время в Гостином дворе с Кропоткиным поздоровался один из его слушателей, увязался за ним и на улице подозвал городового.
Провал Кропоткина больно отозвался на всех чайковцах.
— Надо оставлять город, — стала убеждать Соня, — мы сделали здесь все, что могли.
— Нет, — возражал Сергей, — далеко не все. Спросите Степана, много ли рабочих к нам ходит?
— Это не меняет дела, — новая мысль уже владела Соней, она упорно навязывала ее друзьям. — Десять кружков, двадцать, тридцать… Это капля по сравнению с остальной Россией. Надо идти в деревню. Здесь мы со всех сторон окружены врагами. Нас перехватают, как щенят. Усилий мы тратим уйму, а результат мизерный.
— В деревне, по-вашему, у нас не будет врагов? — не сдавал позиций Сергей.
— В деревне все можно сделать иначе. Здесь мы прячемся, там будем жить открыто.
— Вы плохо знаете деревенские нравы.
— Знаю, — нимало не смутилась Соня. — Если вы пожалуете туда дачником, вы чужак. А если я, например, приеду акушеркой, поверьте, и отношение ко мне будет иное.
— Любопытно, — ему понравилась ее мысль, — а что вы подберете мне?
— Вам бы подошла роль бродячего бондаря.
— Почему бондаря? — удивился Сергей.
— А вы такой крепкий, головастый, — смеялась Соня, — я очень хорошо представляю, как вы сидите в сарае и гнете доски для сорокаведерных бочек.
— Вы знаете, как делают бочки? — хохотал он вместе с ней. — Но вы ошибаетесь. Я лучше определюсь волостным писарем.
— Писарем — это неплохо. Но нужна рекомендация, а главное — писарь из вас не получится. Вы долго не усидите на одном месте.
— Это верно. Не усижу, — перестал смеяться Сергей. — Значит, вы предлагаете на время оставить Петербург?
— На время? — переспросила Соня. — Посмотрим. Вы же сами видите, какие обстоятельства. А пойти в деревню нам рано или поздно все равно бы пришлось.
До Твери ехали вчетвером — Кравчинский, Волховский, Клеменц и Рогачев. Дальше всех следовал Волховский — через Москву и Киев в Одессу, там у чайковцев была группа единомышленников.
В вагоне третьего класса было жарко и смрадно. Фонарь дрожал под потолком, высвечивая, как на картинах Рембрандта, медно-красные руки, багровые носы и лбы. Все остальное пряталось в зыбком полумраке. Перед остановками хлопала дверь, и кондуктор выкрикивал название станции. В вагоне начиналось ворочанье, переругиванье; волочили тяжелые предметы по полу.
Это был какой-то полуреальный, словно приснившийся мир. Он должен был развеяться с утренним криком петуха, с первыми лучами солнца, как пропадают с приходом дня дьявольские наваждения, которые терзают всю ночь человеческую душу.
Но, в отличие от неосязаемых снов, в мутном вагоне жила земная, человеческая речь. Она ломала сон. То смешила, то пугала, то радовала Сергея.