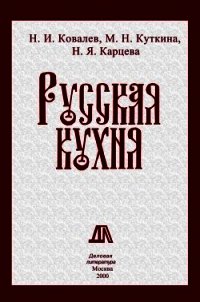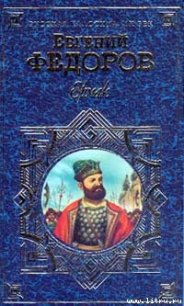Шелихов. Русская Америка - Федоров Юрий Иванович (книги бесплатно без онлайн txt) 📗
Неделю промотался Шелихов по чиновникам, а толку не добился.
Придёт в место присутственное к должностному лицу, скромненько по половичкам протопает, смягчая тяжесть каблука, и — так, мол, и так, объяснять начнёт, купец я сибирский, за океан-море ходил... Дело обскажет. Чиновник встрепенётся, вроде бы живой, а потом глаза у него начнут гаснуть, гаснуть, и в конце разговора уже и вовсе вяло провякает лицо должностное:
— Это не по нашей канцелярии. Пройдите...
И вежливенько скажет, куда именно пройти.
Попервах Григорий Иванович советы такие принимал всерьёз, но потом понял, что ходить он так будет, пока сапоги не истопчет.
Коридоры в питербурхских присутственных местах длинны, лестницы круты, и ходить по ним трудно. Так-то идёшь, идёшь — и думка вдруг стукнет: «Конец-то у хождений таких бывает али нет?»
Тоска, ох, тоска берёт шагающего по этим коридорам. Волчица прямо жадная, алчущая. Грызёт — без всякой жалости. А коридор всё дальше, дальше, дальше ведёт!
Ариадна мифическая любезному своему Тесею клубок ниток всего-то и дала, чтобы он вышел из лабиринта. А какой клубок надо, чтобы из коридоров столичных выйти? Да у Григория Ивановича даже плохонького не имелось клубочка.
А всего и надобно было ему: бумаги по походу за море выправить. Потому как без бумаг этих похода и не было вроде.
Бумажное дело испокон веку так поставлено, что ты можешь до пупа земли добраться, но вот ежели нет подтверждающей бумаги: дескать, пуп это, а не иное чего, и ты до него дошёл, а не другой, — веры тебе не будет. Хоть пуп этот самый вывороти, приволоки и на стол выложи в натуральном виде.
Чиновники всякие Григорию Ивановичу встречались: ласковые и злобные, с бакенбардами и без, в мундирах люстриновых и из хорошей английской шерсти, а бумаги всё одно вперёд не двигались. Григорий Иванович уже и сам сомневаться начал: а и вправду, был ли поход?
На двадцатой, наверное, версте столичных коридоров Григорий Иванович вспомнил, как с отцом в Рыльске, после дня торгового, домой через площадь ходили. Так же колокола звонили, собирая к вечерней молитве, так же воронье летело в тесном небе на ночлег, и ясно было до жути: упади сейчас посреди площади в грязь, ворот порви и крикни: «Люди! Грабят!» — никто не ворохнётся. Даже баба, у забора на скамейке сидящая с подсолнечной шелухой на губах, головы не повернёт. Что ей до крика твоего? Так и здесь. Только в Питербурхе площади поболее да дома повыше, и не баба у забора сидит, а чиновник семенит крадущейся походкой, оглядываясь. Шмыгнёт мимо, уткнув нос в воротник.
«Словно я в марь вступил, — подумал с отчаянием Григорий Иванович, — подлинно в марь. И под ногами ничего нет. Пустота».
Хрустнул зубами. Сбежал с мраморных ступенек коллегии, бросился в извозчицкую коляску. Мужичонка с облучка на него покосился: что-де, мол, за бешеный такой? А Григорий Иванович себя уже сдержать не в силах: вольное, сибирское в нём заговорило, — привстал в коляске и гикнул на коней, как на сибирских трактах гикали. Кони — нервные, питербурхские, непривычные к голосу такому — на задние ноги сели и, уши прижав, рванули. Коляску в сторону бросило. Ямщик чуть не слетел с облучка.
— Что ты, что ты, барин? — зачастил оторопело. Вожжи натянул.
— Давай! Давай! — крикнул Григорий Иванович. Кони ещё пуще пошли. Ветер хлестнул в лицо.
Человек какой-то, замешкавшийся на мостовой, метнулся в сторону. Копыта гремели по торцам. Решётка садовая литая мелькнула сбоку; заржав, отпрянули кони вывернувшегося из переулка экипажа, и понёсся навстречу свет фонарей, сливаясь в сплошную полосу.
Будочник из полосатой будки голову высунул.
— Эй-эй! — крикнул. — Ребята, кто шалить позволил? Вот я вам, — и погрозил кулаком.
Но Шелихов уже откинулся на сиденье. Запахнул шубу. Ветер разгоревшуюся кровь остудил.
Будочник удовлетворённо обобрал сырость с усов. Сказал с приметной завистью под нос синий от холода и частого употребления горячительного зелья:
— Хватили, знать, лишку. — Кашлянул и глазом блеснул. — Оно, конечно, по такой погоде в самый бы раз.
Как борзая добрая, берущая верхним чутьём зайца, вслед коляске носом повёл и долго-долго принюхивался внимательно.
На Грязную улицу коляска въехала шагом.
Иван Алексеевич, сидя перед самоваром, сухие ладошки потёр, сказал:
— Ты, Гриша, по чиновникам, скажу тебе, не прохлаждайся. Не стоит это гроша ломаного. Чиновник что? Ты скажешь ему: купец-де, мол, я сибирский, — он в рот тебе глядит, а сам ждёт, что ты из-под полы огненного соболя ему выхватишь.
— Да соболя не жаль! — ответил Григорий Иванович.
— Оно так, может, и не жаль, — возразил Иван Алексеевич, — ежели это поможет делу, но вот то-то и оно, что не поможет. Племя это, Богом проклятое, тебя берёт на измор. Это уж завсегда так, поверь мне. Они по кругу тебя гонят, как уросливого коня. Ждут, когда пар пойдёт. А вот тогда уж возьмутся крепко. Не один соболёк из тебя вылетит.
— Понимаю, — сказал Григорий Иванович, — не глупый.
Ладонью хлопнул по столу. А рука у него не из самых слабых была. Не велика, но, чувствовалось, костиста, и уж ежели промеж глаз влепит — предвидеть можно без гадания — шишку набьёт добрую. И самая малость, нужно сказать, осталась до того, как кулаком этим самым Шелихову чиновничка обласкать.
Уж неведомо, какую версту Шелихов оттаптывал по коридорам, но как ни топал, а вышел на чиновника. И в этот-то раз такой ему ухарь попался, что из самых подлейших — наибольший подлец.
Сидел он бочком к столу, а стол, крытый зелёным суконцем, чернилами закапан рыжими, в обитом поставце перья обгрызенные, обмусоленные. В руку взять такое пёрышко — душу защемит, куда там до бойкости или лихости какой. Так, от уныния великого, можно по бумаге поцарапать, но не более. Да ещё и бумагу порвёшь, а она — понимать надо — казённая, так что лучше уж и не браться. А рот разинуть и, зевнув сладко, опять ручки сложить на суконце.
Чиновник и головы не повернул. Крепко сидел в кресле. Кстати, большое это умение, да и не всем даётся — вот так вот сидеть устойчиво. Замечено: бывает, люди в рубашке родятся, но с уверенностью можно сказать и то, что иные с креслом появляются на свет, хотя креслице это сразу и не разглядишь при таком вот молодце.
Григорий Иванович подошёл несмело к столу.
И уж этот чиновник и пёрышко своё чистил раз с десяток, волоски с него снимая, и в потолок глядел, и к начальнику бегал беспрестанно, ножками за столы и стулья цепляясь, и глазами водил — слева направо и справа налево. Потом удумал бумагу, что Шелихов ему подал, с одного края стола на другой край перекладывать. Переложит и смотрит на неё вдумчиво, потом возьмёт и опять переложит и опять смотрит. Морщит лобик. Носиком сухоньким шмыгает.
Видя на купце кафтан хороший, угадывал, что и в кармане не пусто. Боялся продешевить. Над глазами жаждущими веки кровью наливались. И чиновник прятал лицо. «А всё же возьму своё, — думал, — возьму».
Шелихов сцепил зубы до судороги, ждал. Желваки на скулах пухли.
Чиновник, видно, и сам понял, что хватает через край, и решил выкинуть новое. Вроде бы ему темно стало, и он, поднявшись, подошёл к окну. Державно так голову откинул и вглядывается в буквы. Затем другим боком к окну оборотился и опять вглядывается, а голову всё больше назад, назад откидывает. Ну, прямо скажем, из самых столичных — столичный.
В груди у Григория Ивановича что-то ёкнуло, и он со стула подниматься начал. Медленно так, медленно, но тяжёл был — и стул скрипнул под ним.
Чиновник бумагу отвёл от глаз и глянул на посетителя.
Бит был чиновник, наверное, не един раз, так как вмиг смекнул, что дело дошло до выволочки. Державное с него слетело разом. Бумагу он выронил и, пискнув, кинулся к дверям. Схватился за ручку медную и заверещал, заверещал во весь голос. Штанишки мыльные тряслись на тощем чиновничьем заду.
Григорий Иванович шагнул к нему:
— Орать и то не можешь... Пищишь. Эх!