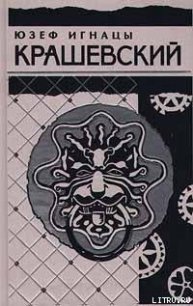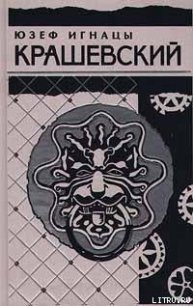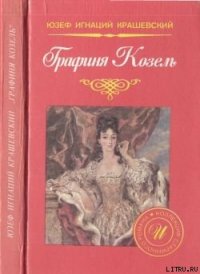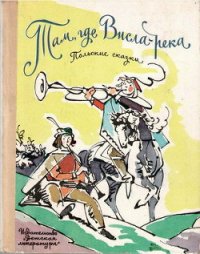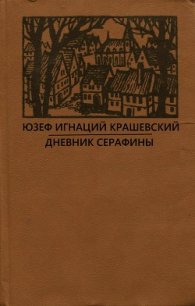Гетманские грехи - Крашевский Юзеф Игнаций (книги бесплатно без txt) 📗
На вопрос: что нового? – он горячо заговорил:
– Плохо, чрезвычайно плохи наши дела! Фамилия забирает все больше власти, и разве только слепые не замечают, что они со своим стольником выиграют дело, а мы – или будем вынуждены сдаться, или они нас раздавят без остатка. К чему утешать себя праздными фантазиями? У них и войска императрицы, и сильная партия в стране, и разум; а мы – накричим, нашумим – а толку никакого.
Подкоморию, который хорошо помнил, что Паклевский состоял при дворе канцлера, было неприятно поверить в такое неблагоприятное для него положение вещей.
– Да, помилуйте! – воскликнул он. – За гетманом стоит все коронное войско, у Радзивилла – несколько тысяч милиции, Потоцкие, Любомирские, Огинские – что же перед ними фамилия?
– Фамилия поддерживает своих кандидатов на всех сеймиках, во всех округах, – сказал Подбипента. – Князь-воевода слеп и не видит опасности –развлекается да угощается; гетман стар и слаб… А мы, что стоим за их плечами, – если они упадут – будем отданы в жертву неприятелю.
Так бывало всегда и так будет и теперь, что паны выкрутятся, а мы, бедняки, попадемся.
Подкоморий опечалился; он хорошо знал, что значит власть сильных, и мог опасаться, как бы Паклевский не преследовал его так, как он когда-то угнетал других в трибунале, когда имел за собой протекцию.
Подбипента, надевая пояс, прибавил грустно:
– Вот везу я эти ominosa verba князю-воеводе; мне не для чего скрывать и умалчивать…
Я знаю, что будет. Пан Богуш покачает головой, князь выстрелит из пистолета и гаркнет во все горло, гетман пожмет плечами, а на другой день они опять соткут какие-нибудь надежды из паутины и скажут, что Подбипенте все это приснилось…
Ничто не поможет, если нечем помочь.
После отъезда шляхтича, подкоморий, расхаживая по комнате, что-то долго обдумывал и давал себе выговоры за то, что не был достаточно терпелив во время переговоров; ему казалось теперь, что надо попытаться каким-нибудь способом еще попытать счастья; тут он вдруг припомнил отца Елисея у доминиканцев и, хотя ни разу в жизни не видел его, но решил воспользоваться своим свойством с ним и выразить ему свое почтение, а в то же время попробовать – нельзя ли сделать его посредником.
Было еще не поздно; отдохнув немного, подкоморий направился в монастырь. Но, когда он попросил провести себя к ксендзу Елисею, пришлось обратиться за разрешением к настоятелю, так как никто здесь не знал подкомория. Отец Целестин, расспросив подробно приезжего и дав ему понять, что святой человек отличается некоторою резкостью и странностями, позволил ему пройти в его келью. Это был час, когда старец кормил своих воробьев; увидев входившего к нему незнакомого человека, он закрыл окно и сделал несколько шагов навстречу гостю.
– Проезжая через Хорощу, я счел бы грехом со своей стороны, – сказал подкоморий, – если бы не пришел поклониться святому отцу… Я горжусь тем, что меня связывают с вами кровные узы.
– Дитя мое, – отвечал отец Елисей, – у меня нет другого родства, кроме Отца в небе и братьев-доминиканцев на земле.
Подкоморий поцеловал ему руку.
– Я женат на Терезе Кежгайло, – сказал он.
– На здоровье, мое дитя, – отвечал отец Елисей.
Разговор не клеился; подкоморий не без основания догадался, что отец Елисей, очевидно, поддерживал отношения с Паклевскими и был предубежден против него.
– Кроме того, что я хотел поклониться вашему преподобию, – сказал он, – я приношу вам жалобу на прием, сделанный мне Паклевскими, от которого у меня сердце разрывается.
– Как же это так? – спросил старик.
– Они знать меня не хотят и даже не разговаривают со мной.
– А раньше вы были знакомы? – спросил монах.
– Мы и не могли быть знакомы, – сказал подкоморий, – свято соблюдая заповедь Божию, я должен был слушаться воеводича как отца; а он не позволял нам встречаться.
– Боже мой! – заметил отец Елисей. – Как же приятно слышать о таком послушании заповеди и родительской власти! Вот-то, верно, болело у вас сердце!
Подкоморий вздохнул.
– Скажу вам правду, ваше преподобие: как только покойный закрыл глаза, я летел сюда как одержимый, чтобы с открытым сердцем протянуть им руку! И что же? Паклевская приняла меня с презрением, а сын ее – как чужого. Даже говорить не желал. Я уехал от них в слезах…
Бедняга вытер сухие глаза. Отец Елисей слушал и смотрел.
– Это нехорошо вышло, – сказал он.
– А нельзя ли уговорить их, чтобы они одумались? – сказал подкоморий. – Если они меня не хотят слушать, то, может быть, голос святого капеллана…
Он еще раз поцеловал его руку. Отец Елисей улыбался.
– Мой голос, – сказал он, – не много значит в мирских делах, да к тому же я, как чужой им, могу заблуждаться. Думается мне вот что: Беата, сестра вашей жены, долгие годы жила в отчуждении от семьи и терпела нужду; дайте ей доказательство вашей любви – не в словах, а на деле, – это заставит ее одуматься, она, наверное, ничего от вас не примет, но должна будет признать, что вы относитесь к ней по-братски.
– А если примет? – живо и неосторожно промолвил подкоморий.
На этот раз старик рассмеялся громко.
– Отец мой, – объяснил Кунасевич, – у нее только один сын и то такой, что для него свет не будет темен; а у меня четверо заморышей, и все такие худые, несчастные, которым нужно что-нибудь оставить, потому что они сами ничего не сумеют заработать… Но, в конце концов, дорогой отец, – что важно? Дело – делом, пусть люди судят, а правительство утверждает приговор; но ведь мне всего важнее любовь и мир, да добрый пример…
– Это все очень хорошо, – сказал отец Елисей, – ну, так что же?
– Я обращаюсь, отец, к вашему заступничеству, чтобы мне не вернуться со стыдом, – горячо заговорил Кунасевич, – вот я вернусь домой, жена придет в отчаяние…
Старец задумался.
– Хорошо, я помирю вас и выпрошу вам прощенье, потому что вы виноваты, – сказал он неторопливо, – но вы дайте мне письменное обещание, что ни в чем не будете противиться воле покойного.
– Письменное обещание? Собственноручно? – возразил подкоморий. – Я? Scripta manet, отец! Ты хочешь, чтобы я связал себя собственноручной подписью? Во имя Отца и Сына! Да за кого же вы меня принимаете? Хе, хе! Вся эта речь, произнесенная совершенно изменившимся тоном, обнаруживала ясно, что подкоморий совсем не знал отца Елисея и относился к нему, как к обыкновенному человеку, с которым можно было разговаривать по-человечески.
Старец поднял руки.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
Подкоморий стоял молча, не понимая цели вопроса.
– Лет? Мне? Praeter propter, метрику сожгли, но известно, что я родился при Саксонце; полвека с лишком на моих плечах.
– А сколько думаешь еще прожить? – сказал ксендз.
Этот второй вопрос окончательно огорошил Кунасевича.
– Это воля Божья. Кто же знает, сколько кому предназначено…
– Судя по-человечески, тебе, дитя мое, осталось прожить десяток-два, – сказал отец Елисей, – но как же ты заботишься, чтобы озолотить этот остаток жизни, не думая о вечности? Боишься собственноручного заявления, готов судиться, чтобы урвать что-нибудь для себя и детей, и не побоишься взвалить тяжесть на душу, лишь бы мошна была полна. Ох, бедный ты мой!
Он сложил руки.
– Дорогой отец, – сказал подкоморий, – я пришел сюда не для проповеди, а за помощью и советом.
– Я и даю тебе совет, как могу: заботься больше о душе, чем о мошне. Говоря это, он повернулся к чирикавшим воробьям.
– Вот эти негодники, – сказал он, – стоит только бросить им зерно, как они сейчас же в драку. Взгляни-ка, сударь. Это совсем как у людей! Кунасевичу вовсе не хотелось смотреть на воробьев; он только теперь начинал понимать, почему настоятель называл старца чудаком.
– Признаюсь вам, ваше преподобие, – заговорил он, потеребив себя за чуприну, – что я шел к вашему преподобию с приятной надеждой, как к духовному лицу святой жизни, что вы во имя Христа помирите нас, а вы…