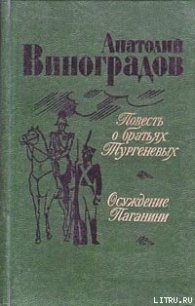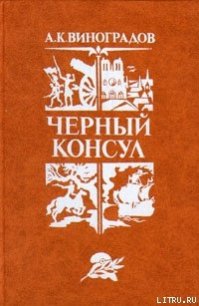Повесть о братьях Тургеневых - Виноградов Анатолий Корнелиевич (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
«Положительно неудачный день, – думал Тургенев. – Что-то делается у меня с нервами? Почему-то не могу собрать мыслей?»
Машинально перелистывал итальянские альбомы. Попалась маленькая флорентийская улица, где когда-то жил.
«Вот, – сказал Тургенев, – самое лучшее в жизни уехать во Флоренцию и сделаться там содержателем трактира».
Потом, иронизируя над собою, добавил: «Без занятий жить скучно, а это занятие с хозяйством, с семьей хорошо. Над всем смеяться, есть, пить, гулять и отдыхать под лимонными деревьями».
Посмотрел на себя в зеркало и, обращаясь к себе же, добавил: «Хорошо, Николай Иванович, право, славно! Пора тебе на что-нибудь решиться. Да, пора решиться», – повторил он еще раз. При слове «решиться» подошел к секретеру и нажал пружинку жестом вполне решительным; твердо и уверенно, не глядя в тайничок, он вынул двумя пальцами за угол бумаги два письма Александра I к Лагарпу и его же письмо к Ланжерону. Свинцовым карандашом были отчеркнуты строчки: «Дав свободу и конституцию стране своей, сделав Россию свободной и счастливой, я своей первой заботой поставлю отречение от престола и удалюсь в потаенный угол Европы, радуясь, что этим я доставил истинное благо своему отечеству». В письме к Ланжерону мальчик, будущий Александр I, тогда великий князь, пишет, до какой степени тяжела ему жизнь в Павловске и в России вообще, ибо «здесь капралы предпочитаются людям образованным. Я пишу вам мало и пишу редко, ибо моя голова положена уже под топор». Тургенев швырнул оба письма в тайничок и с тяжелым, щемящим чувством заходил из угла в угол. Думал о ссылке Пушкина. Вспоминал слова этого юноши: «Холопом и шутом не хочу быть даже у царя небесного...»
«А ведь нынешний царь земной всю свою молодость провел в мечтах о республике и в ненависти к холопству. Что сейчас? Холопы помещичьи более на людей похожи, нежели холопы дворянские вокруг императорского престола. Однако что-то нехорошее делается с моим здоровьем. Надо переменить мысли, надо думать о другом».
Снова раскрыл «Рассуждения о французской революции» г-жи Сталь. Дочь того самого министра казненного французского короля Людовика XVI, дочь Неккера, давшего первый толчок волнениям, предшествовавшим революции, писала о России строки, глубоко возмущавшие Тургенева.
«Опять не удалось уйти от своих мыслей. Сталь сказала где-то на обеде в Петербурге о русском крестьянине: „Народ, сумевший отстоять свою бороду, сумеет отстоять и свою голову“. Это она хорошо сказала, – подумал Тургенев. – Но дальше Сталь писала, что император Александр при всем желании лишен возможности дать России конституцию, ибо в этой стране для народного представительства нет промежуточного класса между боярами и холопами, нет свободного третьего сословия. Значит, народное представительство лишь усилит аристократию и этим отодвинет Россию назад, ибо в нынешней стадии русского развития самодержавная власть одна может сдерживать власть дворян над народом. Совершенный вздор, – думал Тургенев, – и как это Сталь может верить в то, что буржуазия окажется милостивее крестьянина, чем представитель дворянства после освобождения крестьян и после всенародного избрания Думы».
Закрыл книгу. Оделся и вышел на берег Фонтанки. Встретил старшего брата.
– Ты опять поссорился с министром Гурьевым? – спросил тот Николая с опечаленным видом.
– Да ведь он же совершенный дурак. Даже говоря о новой форме гербовой бумаги, министр финансов не может не риторствовать и не витийствовать о карбонариях. При этом смотрит на меня в упор, бьет себя в грудь и кричит, что всякое русское сердце должно содрогаться при имени сих злодеев.
Александр Иванович улыбнулся и сказал:
– Сейчас встретил Аракчеева, что-то уж очень любезен. Говорит: «Рад бы познакомиться с вашим братом поближе, еще более рад тому, что он совсем не тот, как о нем говорят клевещущие».
– Фразы графа Аракчеева меня прельстить не могут, – возразил Николай, – а что касается Гурьева, то припомните, как он выдумал лишить нас всего за попытку освобождения крестьян.
– Ты куда идешь? – спросил его Александр Иванович.
– Хочу устроить променаду в оранжерею на Елагином острове. Там выращивают деревья южных пород. Хоть в оранжерее посмотреть на то, что растет в теплом климате.
– Ну, вот, – прервал его Александр Иванович, – вот тебе новость. Тебе везет: вместо Гурьева будет министром финансов Канкрин.
Николай Тургенев пожал плечами молча. Простился с братом, прошел к Трубецкому. Надел костюм для верховой езды. Конюх вывел ему оседланную лошадь, и минуту спустя легкой рысью кавалерийский конь понес Тургенева по петербургским улицам к Елагину острову. После осмотра оранжереи Николай Иванович сидел в трактире на Выборгском тракте, ел яичницу и пил чай, разложив перед собою дорожную карту Германии, с которой уже несколько дней не расставался. Карандашом вымерял дороги. Перед глазами неотступно вставали горы и замки за Геттингеном, старые поездки в Кассель, наполеоновские офицеры. Мысли бежали с невероятной быстротой.
«Совсем недавно Бонапарт умер на острове св.Елены. Газеты исказили его последние слова о сыне. Смешное это правительство Франции, если боится напечатать последние слова умершего человека о своем ребенке».
Карандаш остановился машинально. Тургенев глянул в карту. Кружочек под карандашом носил название «Карлсбад».
«Старик Виллье посылает меня именно в этот город, – подумал он. – Недостает только, чтобы я, как цыганка, стал гадать на карандаше!»
Вечером за ужином с Александром Ивановичем твердо решил, что поедет лечиться в Карлсбад, а потом, может быть, пробудет часть времени в Италии.
Получено письмо от Сергея: «Жив».
– Хорошо, пусть едет с нами, – сказал Александр Иванович, – поживем втроем под лазоревым небом.
Подали французское вино, чокались, пили весело, говорили, восстановив давно утраченную доверчивость. Вспоминали отца, масонских друзей. Вспоминали масонский праздник – Иванов день – двадцать четвертого июня 1817 года, когда Сергей принял посвящение. Александр Иванович, педагогически поглядывая на брата, говорил:
– Кончились вольнокаменщицкие дела, но не могу тебя одобрить: оставляешь ты свои дневники открытыми и незапертыми. Когда ты на Елагин ездил, я обратил внимание: старый твой дневник открыт на словах Вейсхаупта. Ты пишешь: «В Вейсхаупте также ярко доказывается польза и необходимость обществ тайных для успешности действий важных и полезных. Пусть действуют некоторые, но пусть все наслаждаются плодами сих действий». Ты пишешь это, да еще делаешь приписку: «Вот девиз всех людей, стремящихся к добру. Девиз следующий необходим из непременного порядка вещей, основанного на характере человеческом».
– Я не настаиваю на правильности этого суждения, – уклончиво сказал Николай.
Уже давно прошло то время, когда Александр Иванович знал или мог представлять себе тайную жизнь брата. В качестве члена Коренной думы Северного общества Николай Тургенев, быть может, и сам не представлял себе всей своей роли. Его чрезвычайная занятость, его вечная озабоченность количеством дел, непосильных даже для целого ученого общества, заставляли его приуменьшать свою роль в качестве руководителя большой петербургской конспирации. Холодная замкнутость его, молчаливость и выдержка как нельзя лучше подходили к роли конспиратора. Он сам искренне удивился бы, если бы ему представили мнение будущих повстанцев о нем. Разработка проектов будущих законов, подготовка войскового мнения, вербовка надежных сторонников в войсках прежде всего – это были дела, которые он осуществлял, работая с точностью часового механизма, не произнося при этом ни одного лишнего, неосторожного слова. То, что пылкий Рылеев считал возможным выразить в качестве невзвешенного чувства, Тургенев осуществлял методически, с той разумной холодностью, которая зачастую одна может спасти положение, давая человеку зоркость, недоступную затуманенному взору.
Продолжая разговор, Николай Тургенев все время думал про себя о верности своих слов. Ему казалось бесспорным, что достаточно доброкачественного усилия небольшой группы самоотверженных граждан, располагающих доброй волей и обширными познаниями, чтобы по образцу испанских и итальянских карбонариев из офицерской среды преобразовать порабощенное отечество и превратить его в страну свободы.