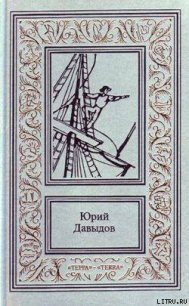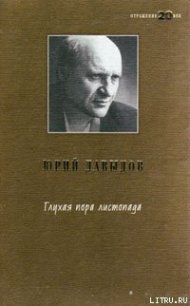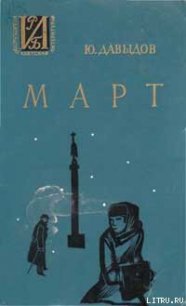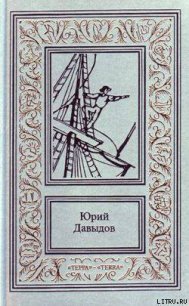Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
– Ну не я, так…
– А я не про другого, я про тебя – Степку Мокеева… Ладно, не к тому, чтоб тебе кишки мотать. А вот что в палачи не пойдешь – верю. А что это значит? А то, что рак-то уже и присвистнул. Чуток, а присвистнул. Понял?
Маркс сказал однажды о ярлыках на системе взглядов: в отличие от ярлыков на товарах, они подчас обманывают не только покупателя, но и продавца. Бакунин был из таких «продавцов». Шишкин в ярлыках не нуждался. Цельный был, без трещинки. И обходился без гипотезы о боге. «Ничего у меня нет, одна душа. Попробуй отыми. Это у вас, – говорил Шишкин, – есть русские, жиды, татары, а у меня – все люди, только что не так говорят. Обычаи разные, да они не помеха, всем земли и воды хватит». Альфой и омегой было Шишкину всяк сам по себе. Не отсюда ли, думал Лопатин, и начинать?
Необитаемым островом, робинзонадой начал Лопатин. И едва моряк очутился на необитаемом острове, едва оказался «сам по себе» – большие, темные, в рубцах и ссадинах, узловатые руки Шишкина оставили возню с коробочками и свистульками – он вечно мастерил их в подарок ребятишкам: здешним, тем, что со своими мамками пережидали в казенном доме, когда отцов-кандальников погонят дальше, за Байкал.
Герман уже приступил вместе с Робинзоном к гончарному и портняжному делу, когда в камеру проскользнул помощник смотрителя. На простецком круглом лице была смесь растерянности и почтительности. Мокееву с Шишкиным он досадливо рукой махнул, к Лопатину же обратился, изобразив нечто вроде полупоклона: в острог приехали господин генерал-губернатор, и оне сей секунд направляются к господину Лопатину.
Как и прежде, до горькой поездки в Петербург, Николай Петрович неукоснительно держался спартанского правила – вставал спозаранку, обливался студеной водою, растеревшись докрасна и надев свежую рубашку, кушал кофий и тотчас приступал к занятиям. Как и прежде, не запирался от посетителей любого чина и звания, наряжал следствия, карал взяточников, все желал объять своим неусыпным попечением. Ничего будто бы не переменилось, а между тем петербургский урок не прошел бесследно, и Синельников втайне испытывал то, что сам же и определил «полуразрушенной энергией». И это сознание надорванности, разрушенности точило все сильнее и больнее по мере приближения пятидесятилетнего юбилея его службы.
Однако желанье испросить отставку, упредив получение ее без всякой просьбы, Синельников гнал. Тут было и упрямство, и самолюбие, но было и то, что он называл надеждой все же принести пользу вопреки комитету министров. И вопреки слухам об учреждении Сибирского наместничества с вручением оного великому князю Алексею Александровичу, за которым Синельников, говоря по совести, не числил ума государственного.
Совершенно же внове было то, что он стал посматривать на подчиненных с иного, нежели прежде, ракурса: ревниво, болезненно, стариковски-подозрительно, исподтишка: не примечают ли за ним убыли энергии, слабости, нерешительности? Он сделался еще более скор на гнев, на бранный разнос с топотом и сотрясанием кулаков, солдатское лицо его грубо багровело, и он переставал различать предметы, словно был без очков. Но гнев, топот и крик не давали, как бывало, облегчения, потому что теперь он неизменно ощущал свое бессилие переменить «отрасли сибирского дела».
Ужасным следствием его тогдашнего душевного состояния было происшествие в театре.
Городской театр недавно закончили постройкой. Поднять занавес Синельников решил непременно накануне Николы зимнего, не позже. Но последние отделочные работы еще не завершились, чего-то не хватало, что-то не ладилось. В другое время Синельников вник бы – как, что, почему, а тут… Был он не в генеральской шинели, а в шубе, без адъютанта и полицмейстера, вроде бы инкогнито обозревал свою столицу, да и нагрянул в театр.
Там пахло краской, клеем, беспорядок был, стружки, доски, Синельникову показалось, что все бездельничают ему назло, он сразу повысил голос. Явился бледный, запыхавшийся десятник Эйхмиллер, седенький, в очках, и то, что десятник был тоже в очках, почему-то особенно разозлило генерала. Он зашелся в ругани и, замахнувшись тяжелой тростью, наступал на десятника. Тот пятился, но вдруг остановился, и генерал внезапно и близко увидел, как у этого мерзавца быстро-быстро вздрагивают губы, увидел – и в ту же секунду обрушил трость. Удар пришелся по загривку, очки у десятника слетели и разбились, кто-то из рабочих громко охнул, а генерал, еще пуще озлясь, что ударил неловко, снова занес трость, но в то же мгновенье пошатнулся от крепкой затрещины.
Последующее Синельников вспомнить не мог, да и старался не вспоминать, а помнил только, что мотал головою, будто стараясь стряхнуть, сбросить эту пощечину, и еще помнил дурацкое желание спросить, что же такое с ним произошло.
Ссыльнопоселенец Игнатий Эйхмиллер, краснодеревец и резчик, человек тихий, незлобивый и даже, как всем казалось, робкий, был тотчас арестован.
Подполковник Купенков обещал поляку полное прощение, ежели тот, умолчав о генеральских побоях, всю вину возьмет на себя. Странно: Эйхмиллер знал, что пан Купенков большой курвин сын, но послушался, поверил.
Суд был краток, как и следствие. Военные судьи могли бы натянуть: близорукий Эйхмиллер не разобрал, кто перед ним; могли бы заключить: генерал, одетый в партикулярное, не находился при исполнении служебных обязанностей – и все обернулось бы иначе. Но курвин сын был начеку. Господа, сказал он военным судьям, не мне объяснять вам, кого представляет в Восточной Сибири их высокопревосходительство генерал-адъютант свиты его величества Николай Петрович Синельников; господа, сказал он военным судьям, решайте по совести и долгу, а генерал-губернатор, несомненно, смягчит ваш приговор ввиду полного раскаяния преступника.
Военный суд приговорил Эйхмиллера к смертной казни через расстреляние. Эйхмиллер спокойно выслушал приговор – ведь он поступил так, как советовал ему господин штаб-офицер.
В тот вечер «весь Иркутск» был в театре. Давали старую пьесу «Дедушка русского флота». Синельников сидел в ложе. Публика, рукоплеща, поворачивалась к нему: Николая Петровича поздравляли и с премьерой, и с днем ангела… Минувшей осенью он стоял на Английской набережной – был ветер, дождь, палили пушки, Синельников мрачно думал об утрате петровского духа и петровской дубинки. Он и сейчас, в театре, думал об этом, но как бы не впрямую, а по касательной… Главная же, сквозная мысль была вот о чем: нынче, утвердив приговор, он исполнил долг. Суровый, беспощадный, в точном соответствии с буквой и духом петровского регламента… И еще он думал о ссыльном поляке Рогинском, – он, Синельников, ходатайствовал о возвращении бывшего мятежника в родные польские пределы… Но именно потому, что Синельников как бы убеждал себя в своем беспристрастии, именно потому, что он как бы призывал Рогинского в свидетели своей справедливости, Николай Петрович сознавал – все это сейчас нужно ему, чтобы не думать об Эйхмиллере, которому уже объявлен смертный приговор.
После спектакля длинный поезд экипажей устремился к дворцу генерал-губернатора, где имел быть парадный обед по случаю именин его высокопревосходительства.
За обедом произносились речи. Синельников благодарил. Обычно весьма умеренный, он нынче испытывал потребность в выпивке, как случалось в те давние годы, когда он служил под Аракчеевым и все было ясно, определенно, четко.
Коротким офицерским броском отправляя в рот рюмку, Синельников, однако, не хмелел, а чувствовал все большее напряжение, словно ожидая чего-то до крайности неприятного. Насупясь, он слушал, что говорил этот Шелашников, пустобрех и лежебока, его, Синельникова, подколодный друг.
Толстый генерал Шелашников, военный и гражданский губернатор Иркутска, молол и молол, превознося именинника. Но вот высоко поднял бокал:
– Господа! Его высокопревосходительство третий год твердо стоит на ногах, подобно своему ангелу-хранителю Николаю Чудотворцу, который, едва родившись, три часа кряду стоял в купели, никем не поддерживаемый. Ура!