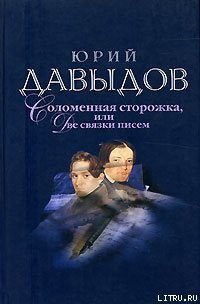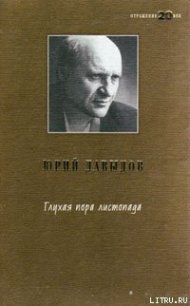Март - Давыдов Юрий Владимирович (полные книги .TXT) 📗
Глава 15 МАРТ
Все было брошено – библиотека, книги… И будто не существовало весенней кутерьмы Парижа.
История взяла на себя труд проверить тактику террористов. Он оказался прав: «истечете кровью». Он прав. Но что ему теперь до своей правоты, когда там, в Петербурге, доигрывали последний акт трагедии? Прошлое глядело на Жоржа.
… В Харькове рассказывал Соне, как ходил по донским станицам, агитировал казаков, и Соня слушала, оперев на руку русую голову.
… В Петербурге, на какой-то квартире, бросил Михайлову: «Что вы делаете? Из-за ваших ребяческих затей оставим деревню, старые области нашей деятельности. Вот так Рим оставлял свои провинции под напором варваров». Ух, подхватился Саша! И какой возгорелся спор, не щадили самолюбия. И вдруг – звонок. «Очевидно, полиция, – сказал Михайлов. – Ты хоть и против террора, но мы, конечно, будем защищаться». Вынули револьверы, взвели курки. И Саша пошел отворять дверь. Еще минута – раздался бы залп. Но тревога оказалось ложной: дворник, черт его дери, явился в неурочное время по какому-то делу.
… Потом Воронеж. Зной, пыль, река с песчаными островками, поляны Архиерейского сада, заросшие мордовником и бурьяном-акулиной. И там, в Воронеже, поражение под натиском сторонников «нового направления».
… Горячее «объяснение» с Желябовым, кажется, в те же дни, когда и с Халтуриным. Горячо «объяснялись». И почему-то показалось тогда, что, быть может, один Андрей, одаренный политической интуицией, он один в глубине души задумывается о последствиях террора. Но если он и задумывался, то действовал без роздыха, без устали.
Что это за энергия? Не энергия ль отчаяния, энергия страстных революционеров, убедившихся в невозможности поднять всероссийское восстание? Проклятый лабиринт, и нет из него выхода без решительного пересмотра всего «багажа». России на роду, видно, писано все выстрадать, за все расплатиться сполна.
Но раздумывать и размышлять теперь, когда у «врагов», ближе которых друзей не было, последние дни? А ты здесь, в этом Париже, «под небом Франции, среди столицы света», и ты ходишь по улицам, и пьешь кофий, и вокруг обыкновенная житейщина.
Тебе надо устоять, тебе надо сказать себе: есть положения, есть обстоятельства, тихие и неприметные, но которые тоже требуют и мужества, и нравственной выдержки. Вот Шиллер многое понял чутьем гениального художника. Его Вильгельм Телль, в сущности, был террористом, а его Штауффахер – агитатором, сеятелем впрок. Но разве первый героичнее второго? У Телля, пожалуй, больше непосредственности, это так, но зато у Штауффахера – сознательного самоотвержения. Однако в действиях, подобных подвигу Телля, вся сила личности обнаруживается в один момент, сверкая и обжигая, словно солнечные лучи, собранные увеличительным стеклом. Обнаружившись, они производят покоряющее впечатление. Не то со Штауффахерами. Их натуры не выявляются в одном, пусть титаническом деянии, нет, их деятельность растягивается на более продолжительное время, а потому и не так впечатляет… Но стоп, стоп, уж не ищешь ли ты оправданий своему пребыванию «на другом берегу»? И это теперь, когда последние дни?
Опять прошлое обступало: в беглых штрихах, в дробных, сменяющих друг друга видениях, но совершенно отчетливых, будто б не минуло и недели, – у вечернего костра на донском берегу вспоминает Саша легенду про запорожца, захваченного в плен басурманами; усталой рукой касается Софья крутого лба; энергическим шагом уходит куда-то Желябов…
Кто они в своей сокровенной человеческой сущности? Плеханов не верит в богатырей из чистой стали. Ему претят попы от революции, истово стоящие на коленях перед своими иконами. Нет, его друзья иные. Не в них ли воплощен высший взлет русской совести? Они подобны тем скалам, которые Жорж видел в Швейцарии. Высокие, несокрушимые скалы, но из камня точится живая вода – страдающие скалы. Rochers de pleurs зовут их в Швейцарии: Скалы слез…
На бульваре Араго худенькие цветочницы предлагали фиалки, голуби взлетали на платаны. В улице Паскаля погромыхивали фургоны, влажно шуршали фиакры. А в доме напротив женщины мыли стекла. Но все это – шум Парижа, комната, где они с Розой поселились недавно, мокрые крыши, цветочницы, голуби, кровельщик, чинивший карниз, мойщицы с тазами, – всё виделось Жоржу смутно, зыбко, словно сквозь воду.
Надо собраться с мыслями, сесть к столу и набросать тезисами то, что он скажет в «Старом дубе». Жюль говорит: «Деспот убит, деспотизм продолжается». В «Старом дубе» будет митинг – десятилетие Парижской коммуны. Надо собраться с мыслями.
Он смотрел в окно, но не видел весенней кутерьмы Парижа.
О, какая глубокая чернота! Но не глухая, не пугающая, нет, а будто вся в ожидании, тревожном и томительном, и этот переливчатый блеск неба, и эти затаившиеся пустынные улицы.
Жорж медленно остывал после митинга. Там, в рабочем клубе «Старый дуб», он говорил речь, и тоже, как Гед, о Коммуне. И о первом марта, и о том, что не революция на пороге России, а мрачные годы реакции… Русские эмигранты кричали: «Позор! Глумление над старыми бойцами!» Глумление? Безнадежные тупицы, они ничего не хотят слышать о социал-демократии. Да, мрачные будут годы. Однако крот истории хорошо роет: выдвинется русский рабочий. Именно он, рабочий России, станет тем динамитом, который взорвет абсолютно нелепое и нелепо абсолютное самодержавие… А эти ослы: «Позор! Глумление!» Гед шел рядом. Искоса поглядывая на Плеханова, видел его скулу, все еще гневно преломленную бровь, и Году так хотелось сказать другу что-нибудь ободряющее, но ему, испытанному трибуну, не подворачивались на язык нужные слова, он шел молча об руку с Жоржем.
– А ведь, пожалуй… – вдруг сумрачно промолвил Плеханов. – Гм… Послушайте, Жюль, кажется, древние полагали, что месяц март не слишком-то благоприятен тиранам?
– Какие древние? Ах, римляне… Право, не помню.
– Да-да, римляне. И, знаете ли, они, черт возьми, не совсем ошибались.
– Э, мистика, друг мой. Впрочем, валяйте, любопытно.
– Извольте! Вопрос гимназисту: когда был убит Юлий Цезарь?
– Юлия Цезаря, господин учитель, укокошили в марте.
– Отлично. А теперь скажите-ка: когда опочил изверг по имени Грозный? И уж заодно: когда удавили императора Павла Первого? Ага, вы не сильны в русской истории? Так вот, Жюль: в марте. В марте! И наконец – Александр…
– Занятно. – Гед прищурился. – Занятно… Ну хорошо, согласен, да только это еще не все. А венская революция против паршивого Меттерниха? А берлинская? А восстание в Ломбардии? Или революция в Пьемонте?
– Март, март! Видите! А вы – «ми-истика»… Ну, а лучшее, что дал нам март? А? Разумеется, Жюль! Разумеется, Парижская коммуна! И никакой мистики, никакой кофейной гущи. Но приходится признать, что он весьма знаменателен, этот самый март. Да-да, весьма. Для тех, кто хочет извлечь из истории практические уроки. Не так ли?
Глава 16 «ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА…»
Господа сенаторы, господа сословные представители сели за стол: особое присутствие для суждения дел о государственных преступлениях.
На бледных губах прокурора Муравьева то возникала, то пропадала какая-то странная, нарочитая улыбочка. Обер-секретарь пересчитывал листы обвинительного акта. В креслах малинового бархата расположилась сановная публика, но всему залу рассыпался ювелирный орденский блеск, блеск эполет с вензелями и приятно, успокоительно пахло английскими мужскими духами, добротным мундирным сукном.
На пустую покамест скамью подсудимых пристально взирал император Александр Николаевич. Его портрет во весь рост, в лосинах и ботфортах, оторочивал гробовой креп.
Сенатор Фукс, двинув челюстью, будто размещая язык и зубы по местам, объявил судебное заседание открытым и просил ввести подсудимых.
И с этой минуты никто в зале не глядел больше ни на сенаторов, ни на сословных представителей, ни на прокурора с обер-секретарем: с этой минуты все, кто получил доступ в зал окружного суда, следили за подсудимыми.