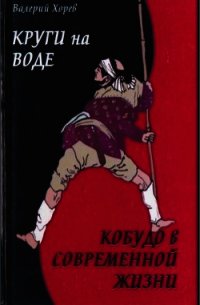Росс непобедимый... - Ганичев Валерий Николаевич (мир бесплатных книг txt) 📗
Но недаром Шарль был изобретательным малым, и в один из дней он оказался при французском поверенном в Петербурге Беранже. Сам расхвалил благопристойную и признанную многими «высокими» людьми цирюльню, и, пригласив поверенного посетить ее, он рассказал о поручении голландцев (об англичанах умолчал) и высказал согласие за плату, достойную французского короля, поработать на его святое дело. С легким презрением выслушал его поверенный, сей подлинный рыцарь чести, и брезгливым жестом указал на дверь. Несколько обескураженный, бывший французский комедиант неизысканно высказался по поводу скупости и скаредности своих земляков и отправился домой.
В дверях цирюльни, заслонив проход, стоял в тонкой работы камзоле, закрывающей глаза шляпе, высокий, худой господин. «Вот первая плата. Будете давать сведения 15-го числа. Нас интересуют сверх того все связи с Альбионом, крымским ханом, Польшей, Австрией, отношение к Франции. Отсутствие этих материалов будет меньше оплачиваться. Всего доброго, мсье, не забудьте – завтра пятнадцатое».
БЕГЛЕЦ
– Батя, а кто главнее на земле: помещик, поп, солдат или простой христианин?
Отец, не облизывая ложку, хряско припечатал ее ко лбу Николки. У того слезы закапали, краснота разлилась по лицу, а в голове загудел колокол отцовского голоса:
– Ты, паршивец, думай, как дома помочь со скотиной управиться, да корову вовремя выгоняй. А то все надумываешь закавыки, да в богохульство впадаешь. Чтоб я тебя больше у отца Феодосия не видел.
Отец не знал, можно ли что добавить про попа – святой отец все-таки, хотя и баламутный какой-то, задумчивый. Оттуда-то Николка и приносит всю путаницу, на которую никто, кроме господа бога да, может, царя, и не ответит.
«Отец, конечно, от бога, – думал он, – но и помещик от бога. А Феодосий говорит: все люди на земле равны, и русские, и поляки, и татарове, и немцы, и господа, и крестьяне – так Христос повелел. Ну а если так, то зачем они сейчас не равны? Отец всего боится. А то, что взращивает, – все не его. Недоимки накопились, платить надо. Где деньги возьмешь? А кому сдавать? Барину! Где тут правда?»
Феодосий уже грамоте научил, хотя и нешибко: Николка буквы знает и медленно слова составляет. Сам Феодосий был раньше где-то в дальних странах, то ли у литвинов, то ли у поляков. Возвратился, и в их деревню пошто-то приехал. Николку заприметил, когда он два года назад при причастии помогал держать просвиру. «Приходи ко мне, отрок, душу укрепим перед господом богом и людьми», – сказал тогда. Приходил Николка и в церковь, и в дом его, где в горнице, окромя стола, лавок и иконы, ничего не было. Да на столе книга церковная с застежками, откуда он и читал непонятное.
До него Николка знал, что есть бог, царь и помещик. Есть батька с матерью, да сестры, да соседи, да за бугром Сосновка. А Феодосий рассказал такое, что вся голова болеть стала. Есть какие-то села большие – города, в них живут не нашего виду люди, по рекам бескрайным корабли плавают. Есть стольный град Москва и ее младший брат Петербург. В оных простых людей почти нет, только бояре, дворяне, торговцы, попы да господа всякие, а на золотом кресле сидит императрица из немцев.
Николка знал, как отец с матерью надрываются в поле. Их-то восемь душ, он старший, а девки с Митюнькой хоть и помогают, но малые еще, и их кормить надо. Помещик осенью хлеб забирает да еще тридцать копеек с души. Где взять? А тут еще приезжают приказные с солдатами, еще требуют по три копейки. Берут подводы и харчи бесплатно. Жить совсем худо стало. Феодосий говорит, что так господь не велел неволить.
Отчистив пол в коровьем закутке досуха, он слегка потрусил остатками соломенной трухи из ясель. Хорошо будет коровенке…
К вечеру Николка был сам не свой, тянуло за ограду, но не смел не сказать отцу. Тот сидел у порога и доделывал держак к граблям – скоро сенокос. Мать ладилась провеять остатки зерна – обвейки тоже в начале лета с лебедой идут в дело.
– Я до Феодосия пойду, просил образа протереть, – не поднимая глаз, негромко, ни к кому не обращаясь, сказал Никола.
– Святое дело, святое, – выскочила мать впереди батьки. Тот ничего не сказал, только хмуро взглянул на нее,
Феодосия в церкви не было. По обыкновению, как учил батюшка, зашел в стоящую у церковной ограды избенку и попятился. Из-за стола темной тенью – только сверкнули зубы – быстро поднялся заросший волосами незнакомый мужик.
– Кто таков?
– Сей отрок любознателен и правдолюбив. Сын Парамона, чья на горе изба, – ответствовал тихо Феодосий сложивший на животе руки. – Садись, Никола. Внимай. А ты, Гаврила, читай.
Волосатый холодным лезвием взора достал до Николкиного нутра, подержал трепыхнувшееся сердце и, успокоившись, сел.
Из-за пазухи достал тряпицу, из нее вынул бумагу, медленно развернул и подвинул ее к Феодосию:
– Читай ты, побойчее будет.
Феодосий не жег, как все в деревне, лучину, в деревянной плошке у него плавал фитилек догорающей свечи, который он поправил и, придвинув к Гавриле, показал, чтобы тот читал сам. Волосатый с паузами за каждым словом, как будто прислушивался, стал читать: «Время уже настало, чтобы лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегает божий закон и государственные нравы и в том чинят Российскому государству недобро… Когда любезный монарх Петр Великий царствовал, то весьма предпочитали закон божий, и государственные нравы крепко наблюдали. А ныне правду всю изринули, да из России вон выгнали, да слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матери осиротели. – Гаврила просветлел, голос его стал густеть и уже заполнил всю избу. – Или оным дворянам не умирать, или им перед богом на суде не быть? Такой же им суд будет, его по меру мерите, возмерится и вам. – И с нажимом закончил, вытаращив глаза: – Екатерина».
– Покажи грамоту, – тихо сказал Феодосий. Повертел ее, поднес к очам, посмотрел на свет свечи и, вздохнув, вымолвил: – Бумага не гербовая, слова реченые не так пишутся…
Мужик снова налился темнотой.
– Веровать надобно императрице. Пошто не видишь гладу, мору, насилия? Пошто богом не коришь лихоимцев?
Батюшка подергал бороду, насупился, помолчал и спросил гостя:
– Что хочешь?
– В Польшу пусть бегут, там паны лихо меж собой дерутся. Мужику легче. Тыщи уже там со всех губерний.
– А ведомо тебе, что за твои подговоры назначена триста рублей награда, что войско генерала Маслова пошло к границе Польши и Литвы для забирания разбойников и беглых?
– То мне ведомо. Но зло растет, а я не токмо по собственному умыслу здесь, а просили меня многих селян отцы и деды, да божья воля, во сне явившаяся. Всех, кто хочет от лихоимства уйти, через два дня у Анисьина креста жду, тайной тропой поведу к воле, свету.
От слов фитилек метался, ну а темный мужик Гаврила то увеличивался в простенке, то растворялся в сумерках избы.
– И ты, – обратился он к Николке, – ежели правду по-взаправдашнему любишь, с нами идем. А я к соседям пошел… Жду.
Феодосий молчал долго после его ухода, а потом молвил:
– Негоже это, Никола, но ты слова никому не говори. Твоя голова еще молодая, ей рано с плеч лететь. А я поведаю мужикам про него. Ступай.
Утром село собралось у церкви. Но не для того, о чем думал Николка. Приехал приказной да пятеро солдат.
– Пошто держите? – робко спросил не выступающий из толпы мужичок.
– В рекруты сегодня будем отбирать, – отвечал седой, с изрытым оспой лицом приказной.
Толпа шевельнулась с тихим шумом: «Как в рекруты?» Все знали, что уже отплакали плакальщицы, отрыдали матери, выпили браги отцы ранней весной, отправляя сыновей в пожизненную солдатчину, из которой никто почти и не возвращался домой.
– От вашей деревни, – громко сказал он, – идут Ивашка Алексеев, Николка Парамонов, Емелька Петров…
Николка увидел, как шагнул отец к крыльцу, что-то стал говорить, развернул тряпицу. На что приказной презрительно хмыкнул: