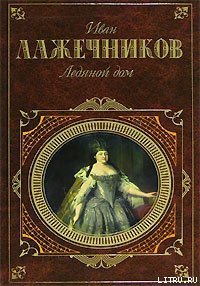Последний Новик - Лажечников Иван Иванович (книги бесплатно без txt) 📗
Тела трех храбрых полковников, убитых в гуммельсгофском сражении, преданы земле на том самом месте, которое завоевал для них герой этого дня. Оно тогда ж обделано дерном; на нем поставлены камень и крест. И доныне, посреди гуммельсгофской горы, зеленеет холм, скрывающий благородный прах; но камня и креста давно уже нет на нем.
Глава третья
Тот же полдень в другом виде
И слабостьми людскими
Не надобно пренебрегать
Во время, в пору нужно знать
Лишь пользоваться ими.
Неподалеку от Гельмета, за изгибом ручья Тарваста, в уклоне берега его, лицом к полдню, врыта была закопченная хижина. Будто крот из норы своей, выглядывала она из-под дерна, служившего ей крышею. Ветки дерев, вкравшись корнями в ее щели, уконопатили ее со всех сторон. Трубы в ней не было; выходом же дыму служили дверь и узкое окно. Большой камень лежал у хижины вместо скамейки. Вблизи ее сочился родник и спалзывал между камешков в ручей Тарваст.
С незапамятных времен хижина эта была родовым имением нищеты, передававшей ее в наследство нищете без судов, без актов и пошлин. Ныне принадлежала она бабке Ганне, как звали ее в округе по ремеслу ее; не одна сотня людей вошла в мир через ее руки. Но как в мире этом все подлежит забвению, еще более человек, в котором перестали иметь нужду, то и Ганне, прежде жившая в достатке и всеми уважаемая, ныне хилая, была забыта и кое-как перебивалась подаянием. В обладании ее дворцом был половинщиком мальчик, внук ее. Чтобы скорее ознакомить читателя с этими лицами, скажем, что Ганне была одна из старух, которые в роковой для Густава вечер поджидали своего посланного у вяза с тремя соснами, внук был рыжеволосый Мартышка.
На дворе чуть брезжилось, а в хижине слышался уже говор. Дверь, растворенная настежь от духоты, пропускала в нее слабый свет занимавшегося утра. В углу, на кровати из нескольких досок, положенных на четырех камнях и пересыпанных излежавшеюся соломой, сидела хозяйка. Безобразие старости выказывалось на ней теперь сильнее, потому что шея, сморщенная, как подбородок индейского петуха, была открыта. В другом углу, на соломе, постланной просто на земле, возился Мартышка: то ложился он, то вставал опять, то, сидя, дремал. Глаза его были мутны от бессонницы; на лице изображалось беспокойство. Старуха, заправляя под платок хлопки седых волос, бормотала сквозь зубы утреннюю молитву и между тем бросала сердитые взгляды на товарища.
– Аль ты меня съесть хочешь? – сказал злой мальчик, передразнивая ее.
– Авита Иуммаль! (Господи помилуй!) – проворчала старуха. – Нелегкое держало тебя ныне в замке; целую ночь напролет шатался.
– Чтобы тебе самой нелегким поперхнуться! Разве ты не знаешь, что московиты и татары будут ныне сюда?
– Татары! Московиты!.. А нам какая до них забота? Чай, и им до нас дела не будет. Придут да уйдут, как льдины в полую воду. В избушке нашей не поживятся и выеденным яйцом.
Злая насмешка выползла из сердца Мартына и блеснула в глазах его.
– Сказывают, – перебил он с коварною улыбкой, – что московиты, лакомые до красоток, увозят их с собою на свою сторону: берегись и ты, любушка! хе-хе-хе!
– Эх, Мартын! грех тебе ругаться над старостью: господь не даст тебе долгого века. Пришибет, уж пришибет тебя и за то, что моришь меня с голоду по целым суткам. (Старуха постучала сухим кулаком по доске своей кровати.) Смотри, чтобы твоих голубушек в кубышке не отыскали! Перекладывай с места на место, а врагу достанутся. (Мальчик задумался.) Сама не возьму, не притронусь, а укажу, укажу… чтоб убил меня дедушка Перкун [Перкун – славянский бог Перун, которого и теперь латыши нередко поминают. «Дедушка Перкун сердится, Перкун стучит», – говорят они, слыша гром], коли я лгу!..
У мальчика глаза разгорелись и запрыгали. Он вскочил с земли, схватил лежавший подле него булыжник и, подняв руку на старуху, закричал:
– Попытайся, попытайся-ка; тут тебе и дух вон!
– Что ты делаешь, проклятое семя? – вскричала женщина, вошедшая в избу так тихо, как тень вечерняя. Взглянув на пришедшую, мальчик обомлел и выпустил камень из рук.
– Ты это, Елисавета Трейман? – спросила старушка с радостным лицом. – Голос-ат твой слышу, а глазами плохо тебя смекаю.
– Я, бабка Ганне! – отвечала Ильза, поцеловав старушку в лоб, села возле нее на кровать, развязала котомку, бывшую у ней за плечами, и вынула кадушечку с маслом, мягкий ржаной хлеб и бутылку с водкой. – Вот тебе и гостинец, отвесть душку.
Старушка дрожащими иссохшими руками схватилась за подарки, не зная, за который прежде приняться; потом бросилась было целовать руку у маркитантши.
– Ну, что нового, бабка Ганне? – продолжала Ильза, отняв у ней руку.
– Нового, нового, мать моя? Дай, господи, мне память! – сказала голодная старуха, вынув с трудом из стены заржавленный нож и подав его маркитантше, чтобы она отрезала ей хлеба. – Да, у скотника в Пебо отелилась корова бычком о двух головах.
– Э, бабка, это случилось в запрошлом лете.
– А мне, кажись, в прошлом месяце. Ахти, мать моя, как времечко-то летит! Постой же, вот тебе новинка горяченькая. Знаешь девку Лельку, что на краю деревни живет?
– Знаю, ну что ж?
Прислонившись к уху гостьи, старушка шепотом проговорила:
– К ней летает по ночам огненный змей…
Ильза махнула рукой в знак нетерпения и обратилась к мальчику, все еще неподвижно стоявшему на одном месте, как будто пригвожден к нему был суровым взором матери.
– К тебе, сынок баронский, чай, вести ползут свыше? Что слышно в ваших краях?
Приосанясь, отвечал Мартын:
– По крепкому наказу твоему подбирать все, что простачки роняют, я наполнил тебе со вчерашнего дня мешочек вестей. Придумай сама, на что они тебе годятся.
– Развязывай, малый, да смотри, ни одной нечистой порошинки!
– Вот видишь: вчера, когда бароны с кучерами высвободили своих лошадей из путов, в которые мы, с дядею Фрицем, их загнали; когда двуногие гости баронессины ускакали на четвероногих, поднялась в замке пыль столбом. Выкопали из кладовых заржавленные пушки, вычистили их песочком, расставили в развалинах, против господского дома, против дороги в Гуммель, роздали дворовым и крестьянам ружья, пистолеты, кинжалы, большие, большие шпаги, которые только двум с трудом поднять. Баронесса говорила им, бог весть что, о короле, о любви к отечеству, о преданности к господскому дому; а новобранные, вместо всего этого, требовали вина. Правду сказать, многие сделали побоище прежде настоящего сражения, так что вынуждены были отобрать у них оружия и с трудом могли унять их воинский жар. Воротились в Гельмет многие студенты и дворяне, как будто для того, чтобы опорожнить недопитую бутылку, и вызвались защищать его, пока голова будет держаться на плечах. С вечера расставили часовых по всем дорогам: теперь и мышонку не пробежать в замок. Слышишь, как мяучат они, словно черт их давит? Давай-ка, думал я, обманем этих драбантов, как обманул Красный нос маленького шведского генерала, которому и от меня досталась порядочная закуска; посмотрим, что делается в крепости. Было близко к часу духов, крики становились реже. Пополз я на брюхе оврагом, кустами, через лазейку под ограду и очутился в синели, у амтманова окошка. Ни одна бешеная собака меня не приметила. Вижу, окно раскрыто и огонек светит. Слышу и голос амтмана. «Благодарю, – сказал он, – за гостинец: только напрасно, право напрасно убытчились. Вперед, смотрите, этого не делайте». А я себе на ус: где заказывают да принимают, там примут и в другой раз.
– Полно орехи щелкать; рассказывай дело, – сказала сердито Ильза.
Мартын, заметя, что шуточками не угодить матери, продолжал просто:
– «Вот видите, – говорил амтман, – таких добрых госпож, как наша баронесса, под землею искать надо. Она прощает вам вашу глупость, принимает вас к себе в верховые, по-прежнему, и позволяет малому жениться на твоей дочери, лишь бы вы ей сослужили теперь службу». Потом стал он говорить что-то шепотом, так что мне расслушать нельзя было. «Ради за нее голову положить!» – отвечали два голоса. Голоса были знакомые, а чьи – вдруг разобрать я не мог. Немного погодя застучали ключами и вышли из дому с фонарем амтман, да – кто еще? Как бы ты смекала? – скотник, бывший кастелян Готлиб и товарищ его, пастух Арнольд.