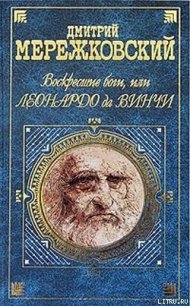Петр и Алексей - Мережковский Дмитрий Сергеевич (электронные книги бесплатно .txt) 📗
Не хочу быть царицей постылою, хочу быть любонькой твоею вечною! Любовь моя – царство мое! Уедем в деревни, либо в Порецкое, либо в Рождествено, будем в тишине да в покое жить, я да ты, да Селебеный – ни до чего нам дела не будет… Ох, сердце мое, жизнь моя, радость моя!.. Аль не хочешь? Не сделаешь… Аль царства жаль?..
– Что спрашиваешь, маменька? Сама знаешь-сделаю…
– Вернешься к отцу?
– Вернусь.
Ему казалось, что теперь происходит обратное тому, что произошло между ними когда-то: уже не он – ею, а она овладевала им силою; ее поцелуи подобны были ранам, ее ласки – убийству.
Вдруг она вся замерла, тихонько его отстраняя, отталкивая и вздохнула опять чуть слышным вздохом:
– Клянись!
Он колебался, как самоубийца в последнюю минуту, когда уже занес над собою нож. Но все-таки сказал:
– Богом клянусь!
Она потушила свечу и обняла его всего одной бесконечною ласкою, глубокою и страшною как смерть.
Ему казалось, что он летит с нею, ведьмою, белою дьяволицей, в бездонную тьму на крыльях урагана.
Он знал, что это – погибель, конец всему, и рад был концу.
На следующий день, 3 октября. Толстой писал царю в Петербург:
"Всемилостивейший Государь!
Сим нашим всеподданнейшим доносим, что сын вашего величества, его высочество государь царевич Алексей Петрович изволил нам сего числа объявить свое намерение: оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в С.-Питербурх едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать и оное письмо изволил нам отдать незапечатанное, чтобы его к вашему величеству под своим кувертом послали, с которого при сем копия приложена, а оригинальное мы оставили у себя, опасаясь при сем случае отпустить. Изволит предлагать токмо две кондиции: первая: дабы ему жить в его деревнях, которые близ С.-Питербурха; а другая: чтоб ему жениться на той девке, которая ныне при нем. И когда мы его сначала склоняли, чтобы к вашему величеству поехал, он без того и мыслить не хотел, ежели вышеписанные кондиции ему позволены не будут. Зело, государь, стужает, чтобы мы ему исходатайствовали от вашего величества позволения обвенчаться с тою девкою, не доезжая до С.-Питербурха. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, однакож, я и без указу осмелился на них позволить словесно. О сем я вашему величеству мое слабое мнение доношу: ежели нет в том какой противности, – чтоб ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет, какого он состояния, еже не от какой обиды ушел, токмо для той девки; другое, что цесаря весьма огорчит, и он уже никогда ему ни в чем верить не будет; третье, что уже отнимется опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, от чего еще и здесь не безопасно. И ежели на то позволишь, государь, – изволил бы ко мне в письме своем, при других делах, о том написать, чтоб я ему мог показать, а не отдать. А ежели ваше величество изволит рассудить, что непристойно тому быть, то не благоволишь ли его токмо ныне милостиво обнадежить, что может то сделаться не в чужом, но в нашем государстве, чтоб он, будучи тем обнадежен, не мыслил чего иного и ехал к вам без всякого сумнения. И благоволи, государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того: когда сие разгласится, то не безопасно, дабы кто-либо, кому то есть противно, не написал к нему какого соблазна, от чего (сохрани Боже!) может, устрашась, переменить свое намерение. Также, государь, благоволи прислать ко мне указ к командирам войск своих, ежели которые обретаются на том пути, которым поедем, буде понадобится конвой, чтоб дали.
Мы уповаем выехать из Неаполя сего октября в 6, или конечно в 7 день. Однакож, царевич изволит прежде съездить в Бар, видеть мощи св. Николая, куда и мы с ним поедем. К тому же дороги в горах безмерно злые, и хотя б, нигде не медля, ехать, но поспешить невозможно. А оная девка ныне брюхата уже четвертый, аль пятый месяц, и сия причина путь наш продолжить может, понеже он для нее скоро не поедет: ибо невозможно описать, как ее любит и какое об ней попечение имеет.
И так, с рабскою покорностью и высоким решпектом всеподданнейше пребываем Петр Толстой P. S. А когда, государь, благоволит Бог мне быть в С.-Питербурхе, уже безопасно буду хвалить Италию и штрафу за то пить не буду, понеже не токмо действительный поход, но и одно намерение быть в Италии добрый эффект вашему величеству и всему Российскому государству принесло".
Он писал также резиденту Веселовскому в Вену:
"Содержите все в высшем секрете, из опасения чтобы какой дьявол не написал к царевичу и не устрашил бы его от поездки. Какие в сем деле чинились трудности, одному Богу известно!
О наших чудесах истинно описать не могу".
Петр Андреевич сидел ночью один в своих покоях в гостинице Трех Королей за письменным столом перед свечкою.
Окончив письмо государю и сняв копию с письма царевича, он взял сургуч, чтобы запечатать их вместе в один конверт. Но отложил его, еще раз перечел подлинное письмо царевича, глубоко, отрадно вздохнул, открыл золотую табакерку, вынул понюшку и, растирая табак между пальцами, с тихой улыбкой задумался. Он едва верил своему счастью. Ведь еще сегодня утром он был в таком отчаяньи, что, получив записку от царевича: «самую нужду имею с тобою говорить, что не без пользы будет», – не хотел к нему ехать: «только-де разговорами время продолжает».
И вот вдруг «замерзелаго упрямства» как не бывало – он согласен на все. «Чудеса, истинно чудеса! Никто, как Бог, да св. Никола!..» Недаром Петр Андреевич всегда особенно чтил Николу и уповал– на «святую протекцию» Чудотворца. Рад был и ныне ехать с царевичем в Бар.
«Есть-де за что угоднику свечку поставить!» Ну, конечно, кроме св. Николы, помогла и богиня Венус, которую он тоже чтил усердно: не постыдила-таки, вывезла матушка!
Сегодня на прощанье поцеловал он ручку девке Афроське.
Да что ручку – он бы и в ножки поклонился ей, как самой богине Венус. Молодец девка! Как оплела царевича!
Ведь, не такой он дурак, чтоб не видеть, на что идет. В томто и дело, что слишком умен. «Сия генеральная регула,вспомнил Толстой одно из своих изречений, – что мудрых легко обмануть, понеже они, хотя и много чрезвычайного знают, однакож, ординарного в жизни не ведают, в чем наибольшая нужда; ведать разум и нрав человеческий – великая философия, и труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить».
С какою беспечною легкостью, с каким веселым лицом объявил сегодня царевич, что едет к отцу. Он был точно сонный или пьяный; все время смеялся каким-то жутким, жалким смехом.
«Ах, бедненький, бедненький! – сокрушенно покачал Петр Андреевич головою и, затянувшись понюшкою, смахнул слезинку, которая выступила на глазах, не то от табаку, не то от жалости. – Яко агнец безгласный ведом на заклание. Помоги ему, Господь!» Петр Андреевич имел сердце доброе и даже чувствительное.
«Да, жаль, а делать нечего, – утешился он тотчас, на то и щука в море, чтоб карась не дремал! Дружба дружбою, а служба службою». Заслужил-таки он, Толстой, царю и отечеству, не ударил лицом в грязь, оказался достойным учеником Николы Макиавеля, увенчал свое поприще: теперь уже сама планета счастия сойдет к нему на грудь андреевской звездою – будут, будут графами Толстые и ежели в веках грядущих прославятся, достигнут чинов высочайших, то вспомнят и Петра Андреевича!
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Господи!».
Мысли эти наполнили сердце его почти шаловливою резвостью. Он вдруг почувствовал себя молодым, как будто лет сорок с плеч долой. Кажется, так бы и пустился в пляс, точно на руках и ногах выросли крылышки, как у бога Меркурия.
Он держал сургуч над пламенем свечи. Пламя дрожало, и огромная тень голого черепа – он снял на ночь парик – прыгала на стене, словно плясала и корчила шутовские рожи, и смеялась, как мертвый череп. Закипели, закапали красные, как кровь, густые капли сургуча. И он тихонько напевал свою любимую песенку: