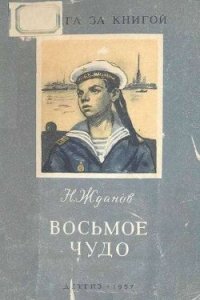Последний фаворит (Екатерина II и Зубов) - Жданов Лев Григорьевич (читаем книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Преодолев свою грусть и слабость, обходит она ужинающих, останавливается у разных групп… Всем находит ласковое, милостивое слово, в то же время дает явное доказательство, что императрица не пала духом, что она спокойна и здорова, а не собирается умирать от огорчения, как шепчут ее некоторые «друзья»…
И понемногу меняется вид и настроение похоронного пира. Звучат кое-где шутки, смех… Звенят бокалы, края которых сталкиваются друг с другом, орошая пеной цветы, брошенные на роскошно убранный стол…
Все было бы хорошо. Но отчего так бледна Александрина? Отчего суров и неулыбчив ее отец? Отчего так медленно движется вперед грузная фигура императрицы? И даже словно меньше ростом стала она, хотя старается так же высоко, гордо нести свою красивую еще голову, как это делает всегда…
Варвара Головина, сидя рядом с молодой графиней Толстой, негромко говорит ей:
– Я видела твоего мужа у великого князя… Вчера ночью… Я знаю кое-что… Побереги его… И надо поберечь Александра…
– О, пустое… Тут нет ничего… Так, вздор… Дела по службе… Ты ошибаешься, Barbe. Но как бледна Александрина…
– Ничего, все пройдет. Я даже рада за нее, что так вышло. Какой злой, бездушный человек! Она не была бы с ним счастлива…
– И я так думаю, – говорит Толстая.
Тарелка почти пуста перед нею. Она не нужна. Молодая женщина берет тарелку, поднимает над плечом, чтобы лакей, стоящий сзади, переменил прибор.
Но вместо руки в перчатке чья-то женская прекрасная белая рука с крупным бриллиантом на пальце берет тарелку.
Толстая оглянулась, вскочила, вспыхнула, как огонь. Дрожит смущенный, испуганный голос:
– Ах!.. Ваше… – Голос дальше оборвался.
– Вы испугались меня, графиня? Вы меня боитесь? Что во мне нынче такое страшное?..
– Я смущена, ваше величество, что не взглянула назад… отдала вам тарелку…
– Что же? Я стояла недалеко… говорила с Львом Александрычем… Вот он сидит. И пришла вам на помощь… О чем толковали, сударыни?
– Да так, пустяки… Много чудаков еще есть у нас… Вот этот князь Белосельский… Чванный какой-то – страх… А надо бы думать, понимать должен кое-что. Побывал повсюду, в чужих краях. Видел, как люди живут…
– Дорога дурака не красит… Только рака красит горе, – с легким невольным вздохом произнесла государыня. – Ну, веселитесь… Ай, батюшки, пудры сколько с прически на платье насыпано… На черном выдает. Не то что на цветных туалетах. Да, к слову: Малюшкин наш, князек, как потешил меня… Тоже во Франции побывал. Видел, что там пудра у франтов на спине белеет. Не понял, что осыпалось с парика. Приехал, спину пудрить себе велит. Такая, мол, последняя мода в Париже! Забавный…
– Спину пудрить… Ну, это стоит смеху!
И обе молодые собеседницы государыни громко засмеялись от души.
Дальше идет императрица, сыплет ласки, шутки…
Она решила с блеском доиграть свою роль до конца.
Слабо освещена неуютная, обширная спальня.
Мария Федоровна уже в постели. Но она не спит.
Павел в шлафроке, в туфлях, с колпаком на голове расхаживает по комнате, вроде своей матери. Но в наружности, в движениях сына нет той силы и законченности, как у матери.
На ходу он и здесь, в туфлях, марширует, как на плацу, вытягивает носок, ставит сразу, по-птичьи, на мягкий ковер большие, не по росту, ступни своих слабых, тоненьких ног… Такие же несоразмерно большие кисти рук взлетают почти при каждом шаге, и забавная тень рисуется на ближней стене. Порою одна рука хватает разлетевшиеся полы халата, запахнет их, упадет – и полы опять разлетаются, как повисшие, трепетные крылья большой водяной птицы пеликана, бредущего на тонких ногах и приседающего слегка на ходу, движеньем крыльев сохраняющего равновесие…
– Когда же это кончится, наконец? – на высоких нотах, визгливо и в то же время хриплым, срывающимся часто голосом выкрикивает Павел. – Сил моих нет! Столько лет терплю!.. С самого дня рождения! За что судьба потешается надо мной? Кто проклял меня? Все живут как люди… Один я… Вот уж полвека скоро маюсь… И нет конца… За что? Почему? Ведь спрашиваю, Мария Федоровна: почему?
Молчит она. Отвечать нет смысла. Весь день хорошо прошел. Но среди вечера подул южный ветер, и сразу нервы разошлись у цесаревича. Едва мог он вежливо проводить императрицу и гостей… Но здесь, в четырех стенах, отводит душу, клянет судьбу, и мир, и людей… И негодует, и проклинает. Плачет порой, пока усталость не охватит взмятенную душу, больное тело и он уснет тяжелым, тревожным сном.
Слушает молча жена и ждет, скоро ли смолкнет Павел.
А он опять заговорил:
– У меня, в моем дому, насмешки, глумленье надо мною! Думают, я не замечаю ничего? И другие говорят мне… Много говорят. Вот теперь сына против отца поднимать вздумали. Бабушка-де скоро умрет! Готовься царствовать. Тебе завещан трон, не отцу… Партию собирай! Отца чтобы не допустить, если он… Да-с, вот что вашему сыну толкуют. Добро, что еще молод, не испорчен… и робок мой сын… Ошибутся… Ни на что не осмелится наш сын! Я буду царствовать, я! И почему бы нет? Почему он? Почему все, да не я? Проклятье! Не нравлюсь… Матушке родной не нравлюсь… Никому не нравлюсь… Вам тоже не нравлюсь… А? Говорить извольте, если спрашивает муж… Почему? За что? Я ли виновен, что вышел таким? Я другим мог быть… Рост разве мой? Вот рука моя! Мужчины рука! Нога тоже настоящая! Большая, широкая… А тут!.. – Он ударил себя по бокам, по груди. – Задушили, заморили… В пуховиках томила бабушка, императрица покойная. Отчего мать не вступилась? Вырастила же моих сыновей!.. Вон какие… Мои ведь они! А? Я вам говорю! Или не мои? Вон нос у Константина – мой совсем… Александр – он на вас, но и на меня походит… Мой он сын, я спрашиваю?..
– Мой друг!..
– Не слезы ль снова? Не терплю! Не обижаю вас, не сомневаюсь. Подтверждения словам моим хочу… Только и всего-с!.. Мой сын?
– Ну можешь ли ты…
– Мой, значит! Какой большой, красивый… И я таким бы мог быть… Заморили, задавили с колыбели… Потом Панин калечил… Душу извратил, тело засушил… Виды были на то… Политические виды у матушки моей!.. Хе-хе-хе!.. И потом душили… И теперь… Сорок два года давят, дышать не дают… И говорят, что зол я… Что причуды у меня… Разве я не был бы добрым? Разве жаден, завистлив я? Людей не люблю? Бога не боюсь? Не жалею всех?.. Жалею. Да себя больше всех жаль… Нищий счастливее меня: у него мать была, семья… У него сыновей не отымали… Его не теснили, не давили. Он мог смеяться, когда весело, плакать, когда скука… А я не могу. Должен по чужой флейте плясать… Оттого и стал таким… Вот-вот…
Он подошел к зеркалу и пальцем стал тыкать в стекло, в свое изображение, которое неясно отражалось там при свете шандала на ближнем столе.
Вдруг произошло что-то странное.
Павел схватил тяжелый бронзовый шандал и с размаху ударил в то место, где отражалось его смешное, теперь искаженное гневом лицо.
Гулко пронесся удар, звук которого отражен был доской под стеклом.
Звеня, посыпались осколки.
В ужасе вскочила великая княгиня, кинулась к мужу:
– Что ты сделал, друг мой?
– Ничего, смотри… Какая рожа!.. Души моей не видно!.. Вот рожа… Ее видать!
Он как зачарованный продолжал глядеть в зеркало.
Что-то странное получилось там.
Куски выпали, но небольшие. Слабая рука выкрошила рану в гладком стекле. И зеркало отражало лицо Павла, но вместо носа чернела выбоина. Другая темнела на виске, словно глубокий пролом. Трещина пришлась там, где отражался рот, и искривила его в странную улыбку.
Потом, четыре года спустя, увидя мертвого мужа, Мария Федоровна вспомнила эту минуту. Но сейчас другая мысль охватила ее безотчетным, леденящим страхом.
– Зеркало разбил… Мертвец… покойник будет в доме…
– Не в этом, нет, не в этом! Я так не хочу!.. И заставлю самую судьбу изменить свои решения!.. Я знаю ее волю… Нынче вечером я читал ее…
– Где, друг мой? Дорогой мой муж, успокойтесь… Вы больны… Где вы читали? Что?