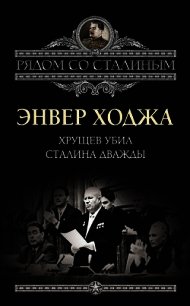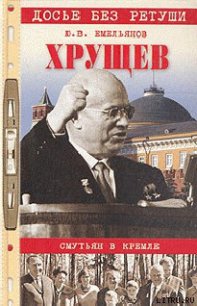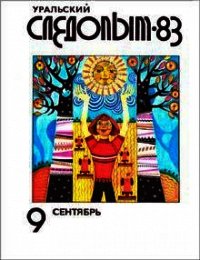Рожденные на улице Мопра - Шишкин Евгений Васильевич (читать полные книги онлайн бесплатно TXT, FB2) 📗
— Ко мне! Ползком ма-а-рш! — рявкнул начальник.
По-пластунски Алексей ползал неумело, тем паче по льду и лужам, но старался изо всех сил, благо шинель берегла колени и локти. Сапоги майора Нищеглота сидели на икрах гармошкой, над сапогами нависала огромная туша, перетянутая портупеей, и голова, как красная налитая тыква, — большая увесистая тыква с шапкой наверху.
— Докладывай, опездол! — приказал Нищеглот.
Алексей приподнял голову, начал рапортовать.
Излюбленным словом «опездол» майор Нищеглот именовал всех «штрафников», всех подчиненных, так же именовал танк, автомашину, тягач, личный пистолет — любой неодушевленный предмет; а по пьяной лавочке слово мужского рода превращал в слово общего рода и так называл жену и с особым нажимом тещу.
У гостеприимного майора Нищеглота рядовой Ворончихин проведет не десять, а двадцать незабываемых суток. «Мастер жанра» прибавит «разжалованному опездолу» сроку еще два раза по пять суток, — майор Нищеглот имел на это полномочия.
Вятский токарь Панкрат Большевик, отец Татьяны Востриковой, всегда гордившийся своим партийным билетом, увидав в телевизоре, как на грудь Брежневу цепят очередную золотую звезду, матюгнулся при жене Елизавете, чего с ним случалось лишь в чрезвычайности. Потом генсек в телевизоре пошел напропалую целоваться с высшей партийной номенклатурой: Суслов, Устинов, Черненко, Андропов, Громыко…
— Вот старые образины! Наготово рехнулись! — сплюнул Панкрат Большевик, выключил приемник, отворотил носастое лицо в сторону окна. За окном текло время конца семидесятых, начала восьмидесятых годов. В стране подняли цены на водку. Народ в России стойко и весело откликнулся прибаутками:
Советская социалистическая телега, груженная не только своими противоречиями и мороками, но и стран соцлагеря и стран-прилипал к соцлагерю, нешуточно скрипела. Скрипела — на радость буржуазной Европе и американским бжезинским. Россия, словно кляча, гонимая нещадным кнутом пролетарского интернационализма, тащила по глубокой колее этот воз, расходовала силы, ум, время… Главные ресурсы по-прежнему уходили на изготовку ракет, истребителей, танков, подводных лодок, радаров, автоматов Калашникова. Их в стране было много. Но живого, действенного прибытку народу они не несли. При этом венгерские, румынские, чешские и особенно носы польских товарищей все более принюхивались к сытым запахам с Запада.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и его дряхлеющие сотоварищи толком не знали, чем смирять интернациональные аппетиты: силой оружия — не хотелось, отрыгалась Чехословакия 68-го года, посылами в светлое будущее — уже не получалось. Старцы из Политбюро чуяли неизбежность перемен, но пока им удавалось законсервировать время, не ломать слишком головы дурацкими вопросами быта и бытия сограждан. Ежели вопрос бытия и быта сограждан становился остёр и заметен, старцы тут же трясли социалистическими достижениями — в спорте, в балете, в нефтедобыче, в космосе, куда то и дело поднимались многотонные махины. Эти космические махины изумляли простолюдина, приводя порой в отчаяние.
Панкрат Большевик возмущался:
— В «хозтоварах» не только электродрель, простых лампочек, бывает, днем с огнем не найти! Милльёны народных рублей в космосе жгут. А ведь погоду толком угадать не могут…
Панкрат Востриков тихо ненавидел Кубу, а вместе с ней бородатого Фиделя Кастро. Он брезгливо взирал на газетные портреты лохматой Анджелы Дэвис, облезлого Луиса Корвалана. Он недовольно кривился, когда на экране появлялись узкоглазые вьетнамцы, монгольские коневоды, сомалийские и еще с десяток разных сортов негров, губастых, с широкими африканскими носами, — ему были противны все те, кто под разными предлогами обирали русских простодыр под чавкающие речи Леонида Ильича, увешанного златыми звездами — точно побрякушками.
Именно он, народ, панкраты востриковы, — те, кто не обслуживал власть, имел право судить эту власть прямолинейно, дерзко, подчас насмехательски.
В устах творческой интеллигенции таковые оценки звучали цинично, пошло, продажно. Модный неологизм «совок» — ласкал слух тем, кто умудрялся с кормушки брать и в кормушку плевать. Разного пошиба поп-музыканты, которым работать бы на Западе в низкосортных кабаках, смаковали словечко «совок», собирая переполненные концертные залы и дрейфуя в шторме советских аплодисментов. Заморщинившиеся поэты-шестидесятники с верноподданическими поэмами о Ленине, революции и великих стройках социализма огребали гонорары и премии и пыжились выдать в мелких стишатах что-то антисоветское. Мэтры кино снимали «патриотику», вились с кинокамерами вокруг великой и неуязвимой русской классики и жалко храбрились, когда просовывали на экран какую-нибудь полудиссидентскую невнятицу. На творческих дачах глубокомысленно и ехидно-мелочно судачили об умолкшем в Вермонте Солженицыне, обсуждали гениального и удачливого позера-ирониста Бродского, с жаром зависти и сарказма описывали сытую или голодную судьбу какого-нибудь любимова, аксенова, лимонова, зиновьева, которых не мог вытерпеть «совок» — или они не смогли его терпеть.
Великий бард Высоцкий хрипло пел под гитарный бой семиструнки про русскую жись и все безнадежнее увязал в наркомании. Измотав вспыльчивое талантливое сердце, умер народник Шукшин, мечтая поставить фильм о заступнике Разине. Режиссер-новатор Тарковский, чуждый соцреализму, пошел искать счастья по западному свету… Не поддающиеся обрусению евреи мечтали утечь в Израиль, а лучше — в Америку: надоело в курилках НИИ прокуривать мозги математиков, физиков, биологов; обрыдла русская бедность, пьянство, очереди…
На эстраде нарождалась целая армия ёрников и насмешников. В Москве, Ленинграде, Одессе, Владивостоке появились видеомагнитофоны и кассеты с порнофильмами. Все больше судачили о пьянчужке Галине Брежневой, о ее бриллиантах, подчеркивая ее статус — дочь первого лица в государстве. Процветала фарцовня — полстраны переоделось в джинсы, которые легально не продавались. Советский Союз впутался в гражданскую войну в Афганистане. Из Афганистана пришли первые цинковые гробы.
Время от времени Генеральный секретарь Брежнев, подкошенный болезнями и бессонницей, выбредал на светлые здравые мысли.
— Отпустите вы меня, ребята, на пенсию, — без лукавства говорил Леонид Ильич соратникам из Политбюро.
Где-то глубоко, под всеми подкорками мозга, чутьем мужика, вышедшего из простонародья, он улавливал, догадывался, что стал анекдотичен и даже для многих невыносим, как все старые старики, наделенные властью. Но никто из политбюровских бонз не собирался списывать или отпускать Леонида Ильича с поста. Да и нет ли в словах генсека об отставке провокации, проверки на вшивость… Нет-нет! Только вы, Леонид Ильич, вы, и никто другой!
— Женя, — жаловался Брежнев главному кремлевскому доктору, академику Чазову, — ноги меня не держат. Сна нету…
«Износился генсек, обветшал, перебирает снотворного», — думал при осмотре главного пациента осторожный до трусости царедворец, но вслух обманчиво бодрил:
— Поправим, поправим, Леонид Ильич…
Природа тоталитарной власти зиждится на лицемерии и холуйстве. Власть несменяемых — злейшая придумка человечества. В некоем мифе об избранной личности или богоизбранном человеке-вожде много позорного и подлого для просвещенного ума. Для России — это атавизм азиатчины и неистребленный исторический страх.
Не такими образами и словами, но по сути так думал Панкрат Большевик, когда отворачивал от телевизора нос в окно конца семидесятых, начала восьмидесятых годов.
Пафос Павла Ворончихина не отдавал лживостью, хотя вопрос членов Госкомиссии задавался для проформы: