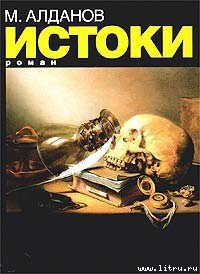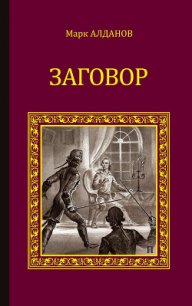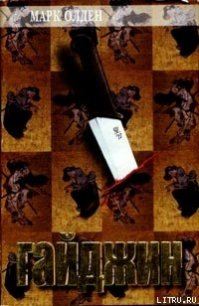Бегство - Алданов Марк Александрович (читаем книги .txt) 📗
— Мы так с вами разошлись в политическом отношении, что я не решалась вас тревожить.
— Помнится, мы никогда не были близки в политическом отношении. Вы всегда были большевичкой.
— С самого основания партии, — с гордостью подтвердила Ксения Карловна. — А вы всегда были «Озлобленный ум»… Кажется, так кто-то шутит у Тургенева?.. Я, однако, посещала в Париже ваши лекции не только с удовольствием, но и с пользой.
— Еще раз благодарю… А знаете, с кем я здесь познакомился? С вашей… С госпожой Фишер, женой вашего отца.
— Она меня весьма мало интересует, — холодно-презрительно сказала Ксения Карловна.
— А сам ваш отец вас интересовал? Что ж вы меня о нем не спросите? Ведь я с ним встречался в последние месяцы его жизни…
— Мы были чужие друг другу люди. Не стану притворяться неутешной дочерью… Я принимала отца как существующий факт.
— А деньги существующего факта вас интересовали?
— Однако это уж… Вы очень не любезны!
«Если вы только теперь это заметили», — хотел было ответить Браун, но удержался. Он смотрел на Ксению Фишер со злобой и с насмешкой. «И весь твой большевизм от безобразной наружности», — подумал он.
— Любезность никогда моей специальностью не была, а теперь, я думаю, она и вообще отменена, — сказал Браун. — Когда вы освободите человечество, постарайтесь его еще немного и облагородить. Очень повысятся другие ценности. Скажем, например, ум или хотя бы наружность? С этим ведь и ваша партия ничего не поделает. Сытые захотят стать красавцами, всего не нивелируешь, правда?
— Это замечание, извините меня, сделало бы честь Кузьме Пруткову, — сказала, вставая, Ксения Карловна.
— А то все, все фальшь, — продолжал Браун, тоже вставая. — О красоте говорят уроды, о любви к людям злодеи, об освобождении человечества деспоты, об охране искусства люди, ничего в искусстве не понимающие. Неудачники и посредственности построят новую жизнь на пошлости и на обмане… Так вы уже уходите, Ксения Карловна? Очень рад был вас повидать…
Ксения Карловна взглянула на него, наклонила голову и быстро направилась к выходу.
VI
Кружок Муси скучал. Развлечений в Петербурге оставалось все меньше. В театры никто не ходил. Говорить было не о чем: писатели не писали книг, художники не выставляли картин, никто не заказывал туалетов, новых сплетен было мало; как старыми туалетами, кое-как перебивались старыми сплетнями, да и то без оживления, — почти все подобрели. Старшие говорили только о большевиках; но так как относительно большевиков все в общем сходились, то и это было скучновато. Муся легче переносила скуку, чувствуя себя отрезанным ломтем. Другие же участники кружка упали духом. Князь Горенский больше не вносил с собой обычного оживления. Он, как говорил Никонов, быстро скис под живительными лучами светлого февраля. У не подобревшей Глафиры Генриховны забота о замужестве, теперь все менее вероятном, превратилась в навязчивую идею. Никонов обыкновенно бывал мрачен, когда оставался без копейки. Вздыхала даже Сонечка Михальская. Была она и немного влюблена, — не то в Витю, не то в Клервилля, не то в Березина, — скорее всего в Березина. Березин теперь бывал у Кременецких редко, отговариваясь тем, что живет он далеко.
Веселее других был Фомин. Он после революции вошел в состав коллегии по охране памятников искусства и на этом основании поселился в Зимнем Дворце. Дворцом Фомин очень охотно угощал добрых знакомых, причем показывал его так, точно прожил в нем всю жизнь или по крайней мере всегда был там своим человеком. Жил он сначала в третьем этаже, в одной из квартир, выходивших во Фрейлинский коридор (эти квартиры Фомин называл «сьютами»). Там он свел знакомство со старыми фрейлинами, которые еще не успели выехать из дворца, ибо деться им было некуда. С ними Фомин тоже разговаривал так, точно вся их жизнь прошла в одном тесном кругу. Фрейлины лишь приятно удивлялись неожиданной любезности, прекрасному воспитанию этого молодого человека, появление которого было в их памяти связано с потопом, обрушившимся на царскую семью, на них, на дворец, на Россию. Понемногу эта связь изгладилась у старых фрейлин из памяти; некоторые из них стали даже думать, что, быть может, Фомин вправду был своим человеком и как-то случайно лишь в пору революции появился в Зимнем Дворце: теперь ведь все было так странно и необычайно. Позднее фрейлины разъехались, а после октябрьского переворота помещения третьего этажа были заколочены и самому Фомину пришлось съехать. Однако, как чуждый политике человек и незаменимый специалист, он поладил с новым начальством коллегии. Интересы искусства это оправдывали. Фомину предоставили уже не «сьют» [6], а просто комнату в первом этаже дворца.
— Кто не видел того, что краса и гордость революции проделала с покоями второго этажа, тот ничего не видел, — говорил Фомин за чаем у Кременецких. Чай был подан в будуаре Тамары Матвеевны, которая теперь часто, к большому своему удовольствию, проводила время с молодежью. Прежде Муся этого не потерпела бы; но она напоследок была гораздо внимательнее и ласковей с матерью, зная, каким горем будет разлука с ней для Тамары Матвеевны. Впрочем, порывы нежности беспрестанно сменялись у Муси раздражением. «Бедная девочка, как она нервна!» — думала огорченно Тамара Матвеевна.
— Когда же вы нам все это покажете? — спросила Глафира Генриховна.
— Ах, да, Платон Михайлович, миленький, покажите нам дворец, — тотчас взмолилась Сонечка.
— С наслаждением…
— Когда? Когда?
— Когда вам будет угодно.
— Знаем мы это «когда вам будет угодно»… Вы сто лет нам обещаете и танцульку показать, когда нам будет угодно. Нам угодно завтра, вот что!
— С наслаждением.
— Что с наслаждением: дворец или танцульку?
— Странное сочетание, Сонечка. Но, si vous ytenez [7], и то и другое.
— Что вы, Сонечка! Побойтесь Бога! — вмешалась Тамара Матвеевна. — Про дворец я ничего не говорю, если Платон Михайлович берется вам показать, но как же вам идти на какую-то ихнюю танцульку? Там все эти матросы и хулиганы… Говорят, что там делаются ужасные вещи!
У Сонечки глаза так и загорелись.
— Да нет, Тамара Матвеевна, вы совершенно ошибаетесь, уверяю вас.
— Тамара Матвеевна, сжальтесь над Сонечкой, ей так хочется посмотреть танцульку.
— Но ведь это поздно вечером! Помилуйте, господа, разве теперь можно возвращаться ночью… Это безумие! Позавчера старика Майкевича ограбили в двух шагах от Невского.
— Ну, что вы, мама, — сказала Муся чуть раздраженным тоном (Тамара Матвеевна тотчас испуганно на нее взглянула). — То старик Майкевич, а то мы. Кто же нападет на компанию из десяти человек?
— Могу вас уверить, Тамара Матвеевна, никакой опасности нет, — вмешался авторитетно Березин. — Слухи об ограблениях очень раздуваются. Разве прежде не было уличных нападений? Разве не грабят людей каждый день в Париже или в Чикаго? В одном уж надо отдать полную справедливость нынешнему правительству: с уголовными преступниками оно не церемонится и расправляется с ними беспощадно.
В словах Березина не было ничего особенного, тем не менее они вызвали легкий холодок. Все замолчали. Сонечка изменилась в лице. Березин, по слухам, разговаривал с ними о каких-то гигантских театральных планах и в последнее время настойчиво твердил, что искусство по природе своей вполне аполитично.
— Разумеется, никакой опасности нет, — прервала молчанье Муся. — Итак, решено, вы нам устраиваете это на завтра, Платон Михайлович?
— Нет, право, это неудачная мысль, — продолжала слабо протестовать Тамара Матвеевна. — Гораздо лучше соберитесь завтра все у нас. Сидите за чаем хоть до поздней ночи, — предложила она, сразу забыв об опасности поздних возвращений домой: возвращаться надо было не Мусе. — А мы с Семеном Исидоровичем вам мешать не будем, мы теперь рано ложимся, — поспешно добавила Тамара Матвеевна.
6
номер «люкс» (англ.)
7
если вам так хочется (фр.)