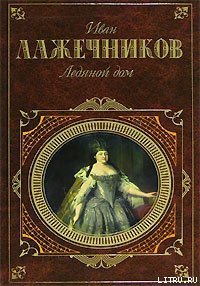Последний Новик - Лажечников Иван Иванович (книги бесплатно без txt) 📗
Конца бы не было сильному, всесокрушающему потоку, льющемуся из уст нашего оратора, для которого слово «адрес» было то же, что поднятие затвора у спуска воды на мельнице, – если бы не поспешил Фриц заткнуть прорыв этот докладом, что поставит карету и лошадей в уголку долины, в тени. Между тем пастор, воспитанница его и Вульф вошли в рощу; усердный конюший понес за ними несколько подушек. Чем далее углублялись они в нее, тем более жар терял силы. Ветерок вился мотыльком между деревьями и обвевал наших путешественников негою прохлады. Сплетшиеся ветви душистой липы, всегда шепчущей осины и клена широколиственного манили их под себя к отдыху; однообразное жужжание пчел склоняло к дремоте. Пастор, утомленный путешествием, охотно предался зову природы: он прилег в беседке, которую нежная заботливость его спутницы устроила со всеми возможными удобностями для него. Старец, забыв мертвецов, адрес, переводы и все великие намерения свои, вскоре заснул крепким сном душевного спокойствия. Прекрасная путешественница села не в дальнем расстоянии от него под наметом цветущей липы и занялась чтением «Светлейшей Аргениды», одного из превосходнейших романов настоящего и прошедшего времен (по крайней мере, так сказано было в заглавии книги), сочиненного знаменитым Барклаем. Подалее цейгмейстер задремал, прислонясь ко пню, обвитому пышным мохом и ползуном. Он имел осторожность взять с собою карабин, который поставил в приятельском отдалении. Фриц… но мы расскажем, что с ним случилось, чрез главу.
Глава четвертая
Кто они такие?
Уж разумеется, что это мы узнаем!
Отдых наших путешественников представляет нам удобный случай короче ознакомить с ними читателя нашего. Начнем со старшего лица.
Эрнст Гликбыл пастором в лифляндском городке Мариенбурге, лежавшем близ границ псковских. Лифляндия не была его отечеством: он родился в Веттине, что в герцогстве Магдебургском, где отец его, Христиан, также священствовал. Дед его Иоган был некогда типографщиком в Лейпциге. От первого получил он в наследство любовь к добру, от второго – любовь к просвещению; и с таким достоянием почитал себя богатым. Занесенный разными обстоятельствами, о которых умалчиваем по незанимательности их, сначала в Ригу, потом в настоящее местопребывание свое, он везде, где только жил, приносил с собою известность почтенного имени и оставлял память о своих добрых делах. По летам и сану его, а более по уважению и любви к нему обывателей мариенбургских можно было назвать его патриархом этого городка. Но как доброе сердце его, найдя тесным этот круг деятельности, умело расширить его за несколько десятков миль от Мариенбурга, так и любовь и уважение успели найти Глика из отдаленных мест Лифляндии.
Добро делать считал он такою же потребностью, как пить и есть. Он был небогат; но догадливая любовь к нему прихожан и окружного дворянства, вознаграждая недостатки его, доставляла ему постоянные способы исполнять эту потребность. За стыд не считал он получать дары, потому что их же раздавал неимущим: в этом случае почитал он себя только посредником между благотворением и несчастьем. Не делал он такого скрытого добра, которое преданные люди обыкновенно, в подобных случаях, разглашают человекам двадцати; не любил он также и открытой дележки. Зато с какою пламенною готовностью спешил он к беспомощному больному с лекарем, лекарством, пособиями всякого рода и даже хожалою (горничною, старою девкой Грете, часто заменявшею его в таких человеколюбивых подвигах), с каким усердием поддерживал он существование бесприютной вдовы, отдавал бедных сирот в учение разным ремеслам, оказывал великодушные пособия подсудимым!
– Законы должны делать свое, – говаривал он, – а я, как человек, свое.
Однако ж острый взгляд его умел почти всегда отличать в числе истинно бедных и несчастных, составляющих везде многочисленное семейство, тех самозванцев-несчастливцев, бродяг, тунеядцев, просящих милостыню по привычке, когда могли бы работой рук своих доставать себе пропитание. Опекун злополучия, великодушный, но не безрассудный, он отказывал последним в вещественном пособии, но преследовал их духовными благодеяниями, мерами, более действительными к исправлению порока; он успел даже многих из них отучить от бродяжничества. Этот добродетельный человек основал в городе рабочий дом, богадельню и училище, помня, как он говорил, что пороки не иначе можно изгнать из общества, как удовлетворением трех главнейших потребностей человека: укреплением тела, очищением сердца и просвещением разума. Успехи его благодетельных средств были доведены до того, что дали бургомистру возможность в одно воскресенье прибить у всех въездов в Мариенбург доски с надписью: Здесь не позволяется просить милостыню. В этот достопамятный день гражданами поставлены были в кирке великолепные, по тогдашнему времени, органы. Вечером же окна пасторского дома внезапно осветились необыкновенным светом. Он выставил свою лысую голову из окна и был изумлен необыкновенным зрелищем: по озеру летело с разных сторон множество двойственных огней, которые соединились у берега против дома, произвели в воздухе блестящее зарево и зажгли воды. Раздались, при звуке мечей, громкие «виваты», и пропет был охриплым голосом почетнейших жителей кант, сочиненный в честь виновника общего их благополучия, в котором сравнивали его с Ликургом, Солономи многими другими законодателями. Торжество это извлекло у доброго старца слезы и радостью взволновало его кровь до того, что он не мог заснуть прежде рассвета. Известно нам также по преданию, что сочинитель канта, городской школьный мастер Дихтерлихт, был несколько дней в лихорадке от одной мысли перейти в потомство с новорожденным своим творением.
Слово Глика к пастве было слово отца к детям: он поучал, увещевал, не пугая. Правда, платил он изредка дань веку своему, щеголяя в проповедях схоластическою ученостью, которою голова его была изобильно снабжена, тревожа с высоты кафедры робкие умы слушателей варварскими терминами из физики и математики и возбуждая от сна вечного не только героев Греции и Рима, но даже Граций и Минерву, с которыми он редко где-нибудь расставался. К чести его надобно оговорить, что он в конце своих речей, со скромностью христианина, почти всегда извинялся перед слушателями, что отвлек их внимание от даров небесных к дарам человеческим. Но лучшее, незабвенное благодеяние, которое он сделал не только своим прихожанам, но и всему лифляндскому краю, был перевод на латышский язык Библии: с его времени закон божий стал известен поселянам на природном их языке и понятен их разуму и сердцу.
Ученость его вошла в пословицу. Он знал хорошо языки греческий, латинский и, что удивительнее всего в тогдашнее время, русский, на который он перевел множество латинских сочинений. Им хотел он сделаться известным преобразователю русского царства и занять в его истории почетное место. Чтобы достигнуть своей цели и между тем согласить чувства верноподданного шведского короля с нетерпеливою любовью к знаменитости, он ожидал мира, как жиды мессии. Страстный поклонник всего великого, являлось ли оно в лютеранине или иноверце, в соотечественнике или чужестранце, он питал уже с давнего времени пламенную любовь юноши к славе царя Алексеевича(так звали его запросто немцы) и успел напитать этим огнем воображение своих домашних. Еще в 1697 году («25-го марта» – это число было у него записано красными чернилами и огромными буквами в календаре), смешавшись в толпе лифляндских дворян, прибывших встретить русского монарха на границе своей в Нейгаузене, он видел там лично этого великого мужа, ехавшего собирать с Европы дань просвещения, чтобы обогатить ею свое государство. Там еще успел он угадать его сердцем, которое часто вернее исследований ума осязает истину, и с того времени, с целью далекою, посвятил лучшие досуги свои изучению языка русского. Мы видели по прочитанной им самим номенклатуре книг, им переведенных на этот язык, что труды его были велики; узнаем впоследствии, были ли они бесполезны.