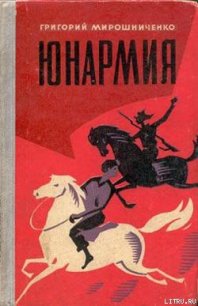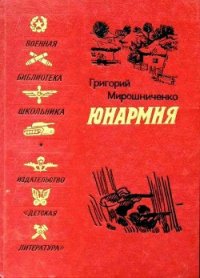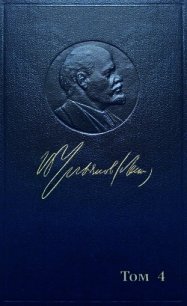Осада Азова - Мирошниченко Григорий Ильич (читаемые книги читать txt) 📗
– За хвост тянет вола. Пьян старина! Ничего он в ней не смыслит!.. – крикнул казак Лебяжья Шея.
– Да он-то понимает… Он-то завсегда правду скажет, если не сбрешет…
Но Серапион продолжал, покачиваясь на ногах, читать и вглядываться в замысловатую вязь письма.
– А ежели она… Ежели она…
Тут кто-то крикнул:
– Ватажка казаков к пороховому погребу подбирается, а вин бреше, аж гай гуде! Не дать ватажке порох пограбить… Убийство будет…
Наум Васильев, Иван Каторжный и Алексей Старой кинулись к пороховым погребам, от которых доносились возбужденные голоса:
– Пойдем на Русь бояр побивати! Царя скидывати!
– Почто ж царя?
– А что ж! Атаманов царь награждает, а голытьбе дурь выбивает… Почто он Мишке такую щедрость оказывал?!
– А ежели она… грамота… подлинно царская… – твердил Серапион, – то она подлинно царская и, видно, писана на Дон для смуты… Нет, братцы казаки, атаманы, – безнадежно махнув рукой, заявил Серапион, – непостижимо сие уму моему грешному. И кривды не вижу, и правды не гляжу. Глядите сами…
– А не он ли к этой бумаге сам руку приложил? – крикнул казак Нехода. – Рубить бы ему голову!
– Помилуй бог, братцы! Супротив войска, супротив атаманов я, черный поп Серапион, помру, а не пойду. Не обижайте, братцы. Сказывать вам: подложная – нет сил моих. Сказывать: доподлинная – разумом не дошел. Сказывать одно – одну сторону погубить, нет – выручить. Сказывать другое – другую сторону погубить, нет – ее выручить. В сем немаловажном деле войску я не судья…
Возле пороховых погребов звенели сабли, стояла ругань, трещали двери. Гришка Ануфриев, вчера явившийся в крепость из Кагальника, подбивал голытьбу:
– Видите ли, братцы, какая ныне на Москве к донским казакам обманная ласка творится государем. К нам заявился беглый и в станичной избе, в курене, прочел книгу, в которой сказывается: пора-де нам на Руси сажать на престол мужицкого царя…
– Да ну?!
– Ей-богу! И пора, так писано там, покидать вам, донским казакам, тую каменную крепость, побить атаманов и выйти на Русь громить бояр! Гулять в поместьях… Чего вам сидеть в крепости, коль царь не берет ее в вотчину. Атаманам выгода, а вам – одна смерть да убыток…
– И верно! Атаманы ведут дружбу с ворами, дают им ружья, сабли, свинец и порох для грабежей, а те воры дают им половину с награбленной добычи… Один Тимошка Яковлев честнее всех атаманов. Его бы выбирать…
– Выберем Корнилия! Пойдем шарпать по всей земле нашей. На Волге немало плывет кораблей в Кизилбаши, в Дербент – труда не надобно, живи, вольный казак, разгуливай! – кричал горбатый, подслеповатый казак без рубахи Смага Бабский.
– Отпишем царю немедля: коли мы ему на Дону не годны и Московскому государству неприятны, и крепость, взятая нашими же многими головами, в вотчину, видно, ему не годитца, – покинем Дон от низу до верху, покинем все реки запольные до самых дальних украинных городов, и всё на Дону и в Азове-крепости очистим и настежь откроем ворота крымским и ногайским людям!.. Не пора ли нам думу крепкую думать: не боярские да не царские головы спасать надобно, а свои, беспрестанно слетающие из-под сабли! – то там, то здесь горланисто выкрикивал Иван Бурка.
Андрей Голая Шуба бегал за ним следом; присвечивая двумя факелами, поддакивал:
– Очистим Дон! Корнилия изберем, братцы!
Маленький большеголовый казак, без шапки, с длинным оселедцем на голове, Иван Самобродов схватил где-то толстое и длинное бревно-кругляк, взвалил на плечо, не по мере широкое, и побежал к крайнему пороховому погребу. Возле погреба стоял шум великий. Иван подлетел к дверям погреба, крикнул зычным голосом:
– А ну, так вашу мать, казанскую сироту, богородицу, спаси, господи, и помилуй, разлетывайся! Чего стоите, рты, что гляделки, разинув?! Трахнем – порох возьмем! Гулять пойдем! Не трахнем – пороха не возьмем! Гулять не пойдем!..
– Почто тебе порох дался! – пробормотал престарелый, седой казак Семен Укола. – Остановись, безумный!
– Поди, я ныне остановлюсь! А ну-ко, отходи, бревном сшибу!
Бревно подхватили с десяток разъяренных казаков, разбежались и ахнули им в дверь погреба. Дверь сразу треснула, развалилась на мелкие щепки, а казаки с бревном пролетели ее и где-то в глубине погреба покатились кубарем.
– Бери! Хватай порох! Его и так маловато осталось. Всем не достанется и по одной пороховнице.
– Выкатывай бочки! Выкатывай!
Выкатили четыре бочки пороху. Одну тут же ненароком разбили.
– И всё? – спросил Иван Бурка.
– И всё! – сказал Иван Самобродов.
Андрей Голая Шуба сунулся к бочкам с факелом.
– Уйди, сатана! – закричали казаки, кинувшиеся опрометью от бочек с порохом. – Взорвет!
Андрей Голая Шуба, увидав рассыпанный по земле порох, выронил факел прямо на бочку, побежал за насыпь погреба.
Порох мгновенно рвануло, осветило ярким заревом все небо и перекинуло искры и горящие бочковые доски к другим бочкам.
– Братцы! – рыдающим голосом кричал Иван Бурка. – Погибнем же! Братцы!
Голос мятежного казака повис над крепостью.
Взорвались еще три бочки с порохом. Пламя от них метнулось по земле во все стороны огненной рекой, а вверх поднялось красным недосягаемым столбом, окутанным черным дымом.
Раздались крики. Потом в Азове-крепости стало так тихо, словно все вымерло.
Возле порохового погреба лежал, раскинув руки, большеголовый Иван Самобродов с сгоревшим на голове оселедцем и сожженным до черноты лицом. В крутой лоб его впились черные сгоревшие и несгоревшие зернинки дымного пороха. Иван Бурка стоял неподалеку от Самобродова, размахивая во все стороны обожженными руками, и рыдал навзрыд как малое дитя. Сгорели у Ивана Бурки все волосы на голове, и брови черные, и усы пышные, и черная как смоль борода, и даже кончик острого носа…
– Да ты ли это, Иван, – спросил его приятель, – ты ли? Господи! Ты плачешь? Надо же! Погуляли казаки с порохом. А все сатана Тимошка да блудня Корнилий. Без пороху всех оставили! Ах, сатаны! Ах… подлые! Сколько людей позагубили!
Сгорели двадцать два казака, а пообожглось порохом в четыре раза больше.
Три дня и три ночи кипело и гудело в крепости разъяренное людское море.
Татаринов понимал, с каким огнем играло войско, но атаманской булавы он отдавать изменникам не хотел. Был бы виновен – дело! Но нет же вины его! Будары с хлебом непременно приплывут…
Поглядывая на него, дед Черкашенин вытирал слезы и приговаривал:
Ах ты, батюшка, наш славный тихий Дон!
Бывало ты, Дон, все быстер течешь и чистехонек!
А теперь ты, кормилец, все мутен течешь:
Помутился ты, Дон, сверху донизу…
Брошенная искра разгорелась в верхних и нижних городках. Враги Татаринова на все пошли. Где черной ложью действовали, где подкупом, где самым злым и неслыханным наговором. И требовали они немедля атаманской булавы да Мишкиной головы. Пили, гуляли, орали и насмехались:
Ой люли, тарара,
На Юре стоит гора.
Ворон черный там сидит
Да с утра в трубу трубит…
Ой люли, тарара,
Сбрита саблей голова!
Шум на майдане и злоба возрастали с каждым часом. Кто остановит взбунтовавшихся? Кто? Да, видно, остановить их некому. Им уже не в закон добрые увещевания умнейшего атамана Алексея Старого. Не трогают их разъярившиеся души и окаменевшие сердца, крепкие, как железо, и справедливые слова атамана Ивана Каторжного. Какое дело им, мятежникам, до огненных, отрезвляющих человеческий разум призывов атамана Наума Васильева? Что им теперь до совести и мудрости слов и великих дел атамана Черкашенина? От всего отказались. Гудят свое:
– Бить атаманов. Царского жалованья нету! Хлеба нету! Пороха нету! Свинца на брата осталось по пульке! Москва нам ныне не указ!
Атамана Татаринова скинули и заспорили, кому быть атаманом: Корнилию или Тимошке. Кто-то, видно, смеха ради, крикнул еще Ивана Бурку.
– Куда ему быть атаманом?! Без носа и без волос. Одни глаза торчат!