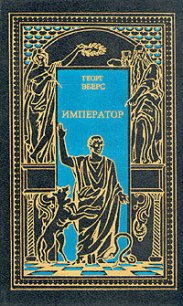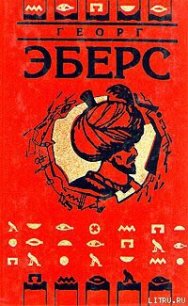Homo sum (Ведь я человек) - Эберс Георг Мориц (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .txt) 📗
— Так он из чистейшей доброты солгал, — прервал Ермий сенатора. — Шуба, которую галл нашел у себя, принадлежала мне. Пока он приносил жертву Митре, я пришел к Сироне за вином для отца, и она позволила мне при этом надеть доспехи своего мужа. А когда тот неожиданно возвратился домой, я выскочил на улицу и забыл эту злополучную шубу. Когда я бежал, со мною встретился Павел и сказал, что уладит все это дело, а меня отослал, чтобы взять мою вину на себя и избавить моего отца от тяжкого огорчения. Твой укоризненный взгляд, Дорофея, я заслужил, потому что в безрассудном легкомыслии я забрался в ту ночь к Сироне, но клянусь памятью моего отца, которого я сегодня лишился по воле Промысла, что Сирона просто поиграла со мною, как с маленьким мальчишкой, и что она не позволила мне даже приблизиться губами к ее золотистым пышным волосам. То, что я говорю, так же истинно, как то, что я надеюсь сделаться воином, как то, что меня слышит душа моего отца; преступление, которое взял на себя Павел, никогда не было совершено, и если вы осудили Сирону, то тяжко и незаслуженно обидели бедную женщину, которая и не думала изменять мужу ради меня, а тем менее ради Павла!
Дорофея и Петр многозначительно переглянулись, и она сказала:
— И все это нам нужно было услышать из чужих уст! Как это чудесно и как в то же время просто! Да, Петр, лучше было бы для нас предположить нечто подобное, чем сомневаться в Сироне. Сначала, конечно, и мне казалось невозможным, чтобы эта красавица, любви которой доискивались совсем иные люди, ради этого странного нищего…
— Как тяжко оскорбили мы бедного! — воскликнул Петр. — Ведь если бы он хвалился каким-нибудь добрым делом, мы, право, не поверили бы ему так скоро.
— Зато мы и наказаны жестоко, — вздохнула Дорофея, — и сердце мое обливается кровью. И отчего ты не обратился к нам, Ермий, когда тебе потребовалось вино? Сколько горя было бы тем предотвращено!
Юноша потупил глаза и молчал. Но вскоре он овладел собою и сказал:
— Позвольте мне пойти и отыскать Павла. За вашу доброту я вам очень благодарен, но не могу долее здесь оставаться: я должен идти на гору!
Сенатор и жена его не удерживали юношу, и когда ворота за ним затворились, в комнате Петра водворилась глубокая тишина.
Дорофея откинулась в кресле, опустив глаза, и слезы текли по ее щекам; Марфана держала руку матери и тихо поглаживала ее, а сенатор подошел к окну и глядел, тяжело переводя дух, на темный двор.
Горе тяготело над сердцами всех тяжелым свинцовым гнетом. Все было тихо в большой комнате; только изредка доносился среди ночного воздуха в открытое окно громкий, протяжный вопль из толпы плакальщиц, которые окружали павших фаранитов. Это был тяжелый час, богатый тщетными безмолвными самообвинениями, заботами и краткими молитвами, но бедный надеждой и утешением.
Наконец, Петр глубоко вздохнул, а Дорофея встала, чтобы подойти к мужу и сказать ему доброе, искреннее слово.
Неожиданно залаяли собаки во дворе, и томимый тревогой отец сказал тихо, подавленным голосом и, очевидно, приготовившись ко всему: «Может быть, это они».
Жена схватила его за руку, но тотчас же отпустила ее, когда за воротами послышался тихий стук.
— Это не Иофор и Антоний, — сказал Петр. — Они взяли с собой ключ.
Марфана подошла и прижалась к нему, а он высунулся из окна и крикнул:
— Кто стучится?
Собаки разлаялись так громко, что ни сенатор, ни обе женщины не могли расслышать ответа, который как будто последовал тотчас же.
— Послушай-ка Аргуса, — сказала Дорофея, — так он воет только тогда, когда приходишь домой ты или кто-нибудь из нас, или когда он чему-нибудь радуется.
Петр приложил пальцы к губам; раздался громкий, пронзительный свист, и когда собаки замолчали, повинуясь его голосу, он опять крикнул во двор:
— Кто бы ты ни был, назовись сейчас же, тогда я отворю. Прошло несколько мгновений, и сенатор хотел уже было повторить свой вопрос, как нежный голос за воротами ответил робко:
— Это я, Петр, я, Сирона.
Едва прозвучали эти слова среди ночной тишины, как Марфана отскочила от отца, положившего ей руку на плечо, бросилась к двери, мигом сбежала по лестнице и очутилась у ворот.
— Сирона, милая бедная Сирона! — крикнула девушка, отодвигая засов, и едва галлиянка вошла в ворота, как она уже кинулась ей на шею и начала целовать и обнимать ее, точно пропавшую и вновь найденную родную сестру.
Не давая сказать ей ни слова, Марфана взяла ее за руку и, осыпая слабо сопротивляющуюся ласковыми словами, повела ее по лестнице в комнату.
Петр и Дорофея встретили ее на пороге, и Дорофея нежно обняла ее, поцеловала в лоб и сказала:
— Бедная! Мы знаем, как мы тебя оскорбили, и постараемся загладить нашу вину.
И сенатор подошел к ней, взял ее за руку и также приветствовал ее сердечно, но несколько сдержанно, потому что не знал еще, дошла ли до нее весть о смерти мужа.
Сирона не находила слов для ответа.
Сходя с горы и заблудившись в темноте, она ожидала, что ее прогонят, как отверженную. Сандалии ее изорвались об острые камни и болтались лохмотьями на окровавленных ногах, пышные волосы растрепал ночной ветер, а ее белая одежда походила на нищенское рубище, потому что она изрезала ее, чтобы перевязать рану Поликарпа.
Уже много часов прошло с той минуты, как она оставила раненого, боясь за него и опасаясь жестокой встречи со стороны его родителей.
Как дрожала от страха ее рука, когда она наконец решилась стукнуть железным молотком в ворота сенатора; и вот ей открылись объятия отца, матери, сестры, вот перед нею опять гостеприимно открылся точно родной дом!
Беспредельным умилением, невыразимою благодарностью исполнилось ее сердце, и, громко заплакав, прижала она сложенные руки к груди.
Но только на несколько мгновений предалась она этому блаженному чувству, ибо без Поликарпа не было ведь для нее счастья, и ради него ведь пустилась она в опасный ночной путь.
Марфана опять нежно подошла к ней; но она отклонила ее ласково и сказала:
— Не теперь, моя милая. Я и то уже потеряла целый час, заблудившись в ущельях. Готовься, Петр, тотчас же идти со мною на гору, потому что, только не пугайся, Дорофея, главная опасность, сказал Павел, миновала, и если Поликарп…
![Тернистым путем [Каракалла] - Эберс Георг Мориц (книги полностью бесплатно TXT) 📗](/uploads/posts/books/31036/31036.jpg)