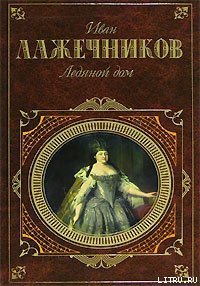Последний Новик - Лажечников Иван Иванович (книги бесплатно без txt) 📗
Здесь кончалась выписка из завещания Кропотова.
– Остальное я не почел нужным приобресть, – сказал Паткуль, увидев, что Владимир кончил чтение бумаги, – повествование дальнейшего пребывания твоего у царевны и твоих несчастий не сходно с описанием, которое ты мне сделал. Отец твой, как и многие другие, получил о смерти твоей вымышленные известия. В конце завещания описывает он потерю единственного оставшегося у него сына, служившего в Семеновском полку и посланного за рекрутами в Новгородское воеводство. Этого удара не мог он выдержать и, по-видимому, искал смерти в битве. Он умолял друга своего Полуектова принять на себя попечения о матери твоей, поставить придел во имя святого, твоего патрона, в церкви Троицкого посада, где совершилась твоя мнимая казнь, учредить поминовение по душе твоей и взять на воспитание беднейшего сироту вместо сына. Что скажешь на это, друг? Ты и теперь будто сомневаешься?
– Справедливо многое, что здесь описано, – сказал Владимир, читавший доселе выписку из завещания Кропотова с жадным и грустным вниманием. – Пригожая, добрая женщина, подарившая мне гусли, и теперь представляется мне, как в сновидении; но и теперь скажу: она не была моя мать. Выслушайте, что открыл мне сам Андрей Денисов, встретившийся со мною на днях в хижине здешнего лесника.
Тут Владимир пересказал Паткулю разговор свой с коварным стариком. Выслушав повесть, Рейнгольд углубился в размышления; казалось, он был поражен новым открытием. Не отвечая ничего, повел он в дом Блументроста Владимира, остававшегося по-прежнему сиротою.
Глава седьмая
История завещания
Не в первый раз мертвец дела творит,
Какие вживь ему на мысль не приходили!..
Готово все: жених приходит;
Идут во храм…
Но, ах! от сердца то, что мило,
Кто оторвет?
Что раз оно здесь полюбило,
С тем и умрет.
Свидание Густава с Паткулем было трогательно. Племянник видел теперь в нем только своего ближайшего родственника, благодетеля, второго отца, единственную надежду, и в объятиях его спешил скрыть свои слезы.
– Густав! – сказал Паткуль, когда они могли беседовать спокойнее. – Представляю тебе моего друга. Не смотри на бедную его одежду: под нею скрывается возвышенная душа, с которой я не смею своей поравняться; она не знает мести. Еще прибавлю: он русский!
И Владимир и Густав померяли друг друга взглядом; связи русского с Паткулем поняты Траутфеттером, и мысль о них возмутила было душу последнего; но другая мысль, что новый знакомец его сделался шпионом из любви к отечеству, и благородный взгляд Владимира заставили его с ним помириться. Оба поняли друг друга и единодушно пожали друг другу руки.
– Теперь, – сказал Рейнгольд, когда все они сблизились искренностью разговора, – теперь, любезный Густав, могу исповедаться тебе в своих поступках. Тяжба моя со шведским королем оканчивается. Сам бог брани за меня. Жребий моего отечества брошен, каков ни есть он: Лифляндия принадлежит уже России. Крепости среди опустошенного ее края не оплот шведам. Суди всевышний! не я первый затеял эту тяжбу. Соотечественники мои избрали меня своим представителем у престола неумолимого Карла XI и ходатаем за права их, освященные временем, законами и клятвою царей. Я исполнил, что мне поручено было, как благородный лифляндец: никто не упрекнет меня в противном. За это осужден я потерять голову и честь. Бежав от жестокого, незаслуженного наказания, ужели я сделался преступником?.. Сколько раз молил я двух венчанных судей моих простить мне вину, которой не знаю, и обещал честным словом Паткуля служить им верноподданнически; но я не обещал изменять обету, данному отечеству моему, любить его выше всего – и не был прощен. Мщение молодого короля за оскорбление будто бы отца не велит и теперь палачу опускать топора, занесенного на меня. Лишенный имения, прав гражданина, отечества, с одною честию, которой не в силах отнять у меня соединенные приговоры всех владык земных, я вынужден был, после нескольких лет изгнанничества среди гостеприимных, свободных Альпов, искать себе гражданской жизни. Отечества никто не мог мне заменить. Август предложил мне свое покровительство; я принял его. Из мирного круга пастухов Гельвеции перенесенный в кипучую, шумную жизнь двора, с душой пламенной и нетерпеливой, какова моя, я должен был действовать. На политической дороге своей встретил я самонадеянность Карла и ненависть его ко мне. Карл перестал быть моим государем; он сделался только личным моим врагом; я не пошел назад и стал ему поперек. На это чувствовал я в себе довольно силы: успехи оправдали мою отвагу. Отечество мое предано было своей несчастной судьбе: я хотел спасти его от совершенной гибели. Меры спасения были тяжелы, но верны, я схватился за них. С медленным умом Августа и холодной, шаткой душой его я не сошелся. Я его называл застоем прошедшего века; он меня – горячкой века нового. Надо было нам расстаться. На севере вставал исполин. Подпирая под невежество России сильный рычаг, он захватил им основание Швеции и готов уже был пытать над нею силы свои. Гений Петра пленил меня: он один мог примкнуть к себе Лифляндию и сделать ее счастливою. Положение ее, ее раны, поделанные властолюбием Карла XI и растравленные удальством его сына; силы, средства, обширность России, которая, рано или поздно, должна была поглотить мое отечество своим соседством и которая – поверьте мне – не позже столетия будет могущественнейшею державою в мире; величие Петра, ручающееся за благосостояние стран, ему вверенных, – все подвинуло меня оставить Августа и броситься в объятия царя, для меня открытые. Я сделался его подданным, его другом. Нет воли его, нет желания, которых бы я не почел для себя долгом. Если бы он заставил меня смолить корабли, я выполнил бы это, потому что этого желал бы Петр. Помогая его видам, я созидаю вместе благосостояние Лифляндии. Вот мои вины перед нею! Суди меня в них, Густав, как бы судила Европа, как будет судить потомство.
– Дядюшка! – отвечал Густав. – Трудно решать дело, на которое, по чувствам нашим, мы можем смотреть с разных точек. Скажу вам только: разум мой соглашается с вами, но сердце вас осуждает. Первым будет для вас потомство, вторым – современники, еще более – соотечественники наши. Не знаю вперед судьбы своего отечества: может статься, ваша политика доставит ему счастие, которого истинно ему желаю. Но теперь истоптанные жатвы, сожженные села, скитающиеся без пристанища жители, тысячами гонимые, как стада, в Московию бичом татарина, города, опустошенные на несколько веков, – неужели все эти бедствия не вопиют против вас? Какая истина, какие надежды зажмут вопли несчастных?
– Против этих жестокостей я первый восстал в стане русском и старался облегчить участь несчастных. Скажу более: за эту бесчеловечную политику поссорился я с Шереметевым – и, чтобы не быть в ней невольным соучастником, удаляюсь к Петру. Вспомни также, Густав, что не я присоветовал войну, не я привел войска русские в Лифляндию.
– Но все в этом вас упрекают. Говорят вообще, что Рейнгольд Паткуль отмщает королю на своих соотечественниках.
– Неправда! неправда! Война была начата до меня; она прежде меня созрела в уме царя, желавшего облокотить свою державу о берег моря Балтийского. Я поспешил управлять ходом этой войны не для отягощения моего отечества, но для освобождения его от ига шведского и безумного удальства нового Дон Кихота, предавшего его собственной защите. Не от меня все эти пожары, эти переселения, о которых ты говоришь. Не было б ныне Паткуля в Лифляндии – разве она освободилась бы от этих бедствий? Они были б еще жесточе, длились бы долее. Пускай же упрекают меня теперь, клянут те, которые не хотят разобрать моих действий. Отечество мое заключается не в одном настоящем поколении; оно и в потомстве, а потомство будет благословлять имя того, кто устроил его благосостояние. Лифляндия, ныне отторженная против собственной воли ее или, лучше сказать, некоторых закоснелых баронов, связанных узами родства и подкупом со Швециею, будет счастлива под скипетром России. Голова моя в этом порукою.