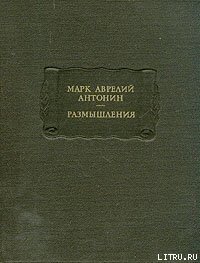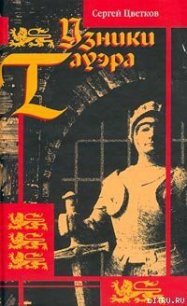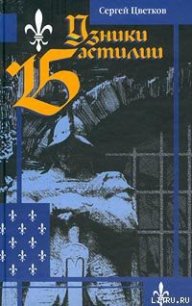Великое неизвестное - Цветков Сергей Эдуардович (серия книг .txt) 📗
Это письмо, показывавшее всю честность, благородство и великодушие человека, считавшего себя ответственным за мой сумасбродный поступок, возбудило во мне чувство благодарности к моему другу.
Однако мне приходилось выпутываться самому. Я чувствовал себя одиноким, но не пал духом, хотя прежнего спокойствия и уверенности у меня уже не было. При всем этом воспоминание о Лугине не покидало меня; чем более видел я людей, тем более начинал ценить его оригинальность и зрелость мысли. В разлуке его влияние, подкрепляемое собственными размышлениями, получило еще большую силу. С величайшим нетерпением ожидал я его приезда, расспрашивал всех и каждого, и никто не мог мне ничего сказать. Наконец я узнал, что он в Петербурге, и тотчас же бросился к нему.
— Ну и отлично, — сказал он, выслушав краткий рассказ о моих затруднениях, — вот вы и свободны! Капитан ваш умно поступил, сбросив с себя цепи, приковывавшие его ко двору. Должно быть, и я скоро сделаю то же самое.
— Вы? Кавалергардский полковник! Вы откажетесь от всех выгод, ожидающих вас на службе?
— Очень выгодно разоряться на лошадей и на подобные тому вещи! Еще если б я мог разоряться! Но у меня отец находит возможность все более и более урезывать назначенное им же содержание. Я денно и нощно проклинаю мое положение…
— Действительно, вы иногда бываете задумчивы.
— Поневоле задумаешься, мой милый! Меня держат впроголодь. Вы, вероятно, заметили, как я похудел?
— Да, я нахожу, что вы бледны.
— Бледен! Вам, должно быть, слов жалко. Придумайте что-нибудь посильнее. На пиру жизни меня угощают квасом.
— Говорят, от него толстеют…
— Дураки одни, да те и от скуки толстеют. Квас возбуждает сильнейшее желание сделаться отшельником.
— Вы еще не дожили до таких лет.
— Черти только в молодости и бывают набожны. Мне нужны уединение и пустыня. Знаете ли, что мне иногда приходит в голову? Хорошо бы было отправиться в Южную Америку к взбунтовавшимся молодцам… Вы француз, следовательно, должны знать, что бунт — священнейшая обязанность каждого.
— Вам, стало быть, желательно, чтобы вас повесили на счет испанского короля?
— Ну, довольно об этом. Вам нужна помощь, то есть добрый совет; вы обратились как раз но адресу. Что же вы намереваетесь делать теперь, если намереваетесь что-нибудь делать вообще?
— А что вы мне посоветуете?
— Да я вам советовал бы ничего не делать: это безопаснее…
— Я не могу ничего не делать.
— Вы можете ждать. У вас есть мебель… Я знаю, чего стоит мебель в казармах: за нее дадут гроши… Еще у вас пара лошадей… Каковы они?
— Они пожирают пространство — хорошенькие, серые, породистые малороссийские лошадки.
— Тем хуже: если они на что-нибудь годны, то за них ничего не дадут… А экипажи?
— Имеют то достоинство, что целы.
— Что ж, в сумме получится довольно, чтоб заплатить за хороший завтрак! Разделайтесь поскорее с обломками роскоши и приходите всякий день завтракать ко мне. Но предупреждаю вас — мой повар из спартанцев.
План этот мне понравился, тем более что я уже начинал считать независимость первым условием счастья. Прежде всего я написал капитану, чтобы снять с него ответственность за свою судьбу и поблагодарить за дружбу. Затем я принялся за продажу моего скудного имущества. Благодаря посредничеству моих друзей мне удалось выручить больше, чем я предполагал. На эту сумму я мог спокойно прожить некоторое время, конечно не позволяя себе ничего лишнего. Один француз, живший на Малой Морской, уступил мне за небольшую цену две комнаты. Военной службой я совсем не занимался и даже почти уже решился при первой возможности выйти в отставку. Зиму 1816 года я провел в обществе Лугина, который не переставал поражать меня своей оригинальностью и искренностью. Его огненная фантазия, стремившаяся за пределы существующего, неудержимо увлекала и меня в мир призраков, к цветущим берегам неведомой Южной Америки, о которой мой друг заговаривал все чаще.
Способности его были блестящи и разнообразны: он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политэконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями. Таков был этот необыкновенный человек.
Между тем его денежные дела шли все хуже и хуже; к материальным затруднениям прибавились семейные неурядицы из-за постоянных ссор с отцом. Однажды, после одной такой ссоры, я зашел к нему; он сидел за фортепьяно и играл с обычным brio [166].
— Здравствуйте, — сказал я, подходя, чтобы разглядеть выражение его лица.
Оно было спокойно; пальцы делали свое дело. Он кивнул мне, не прекращая игры.
— Что это такое? — спросил я.
— Арагонский болеро. Должно быть, я когда-нибудь слышал этот мотив, и теперь он пришел мне на память.
— Нет, вы обманываете меня — это ваше собственное произведение.
— Очень может быть.
Он доиграл до конца, взял три заключительных аккорда и потом спокойно подошел ко мне поздороваться. На столе лежала книга.
— Полезная это книга, — заметил он, подавая ее мне.
Я взглянул на название: это была испанская грамматика.
На мой вопрос, чем закончился его разговор с отцом, Лугин отвечал, что он нашел наконец способ договориться со стариком. Он предложил отцу план — «отличную спекуляцию», по словам самого Лугина. Суть этого плана заключалась в том, что отец обязался уплатить все его долги и выдать ему пять тысяч рублей с тем, чтобы Лугин мог выйти в отставку и распоряжаться своей свободой по своему усмотрению, ничего более не прося у отца.
— Вы в отставку? — в изумлении воскликнул я. — Кавалергардский полковник!
— Как же я могу служить в кавалергардах с моим ничтожным доходом? Итак, я выхожу в отставку, отправляюсь в Южную Америку и поступаю в ряды тамошних молодцов, которые теперь бунтуют. Таким образом я доказываю свою независимость и ничем не рискую, кроме жизни… Вот моя просьба об отставке, только что испеченная: еще чернила не успели высохнуть! В ней моя будущность, моя свобода. По-испански свобода — libertade.
Я был и удивлен, и обрадован. Наконец-то мой бедный Лугин мог разделаться с ростовщиками и вздохнуть свободно.
— Я понимаю, что теперь, после вашей капитуляции, вы уже не можете оставаться в военной службе и тащиться по избитой колее, — сказал я ему. — Но с вашими блестящими способностями вы можете быть полезным в гражданской службе и сразу стать превосходительством.
— Мой милый, — вскричал он, — для меня открыта только одна карьера — карьера свободы, которая по-испански зовется libertade, а в ней не имеют смысла титулы, как бы громки они ни были! Вы говорите, что у меня большие способности, и хотите, чтобы я их схоронил в какой-нибудь канцелярии из-за тщеславного желания получать чины и звезды, которые вы, французы, совершенно верно называете crachats [167]… Как! Я буду получать большое жалованье и ничего не делать, или делать вздор, или еще хуже — делать все на свете, и надо мной будет идиот, которого я буду ублажать, с тем, чтоб когда-нибудь его спихнуть и самому сесть на его место? И вы думаете, что я способен на такое жалкое существование? Да я задохнусь, и это будет справедливым наказанием за поругание духа. Избыток сил задушит меня. Нет, нет, мне нужна свобода мысли, свобода воли, свобода действий. Вот это настоящая жизнь! Прочь существование ненужной твари! Я не хочу быть в зависимости от своего официального положения, я буду приносить пользу людям тем способом, какой мне внушают разум и сердце. Гражданин Вселенной — лучше этого титула нет на свете. Свобода! Libertade! Я уезжаю отсюда. Поедем вместе! Ваше призвание быть волонтером: я вас вербую.
Тут я поспешил прервать его, чтобы немного охладить порыв увлечения:
— Вы думаете, что я достоин быть вашим Санчо Пансой, благородный Ламанчский герой? Я уже теперь вижу, как будет сиять на вашей голове бритвенный таз! Да, я последую за вами, и всякий раз после неудачной борьбы с ветряными мельницами, которые зовутся действительностью, буду напоминать вам пословицы, изречения народной мудрости. Я тоже не хочу больше носить оружия, но вместо него я вооружусь пером и там, на цветущих берегах Сены, буду осмеивать людские слабости.
166
Оживлением (ит.)
167
Плевки (фр.)