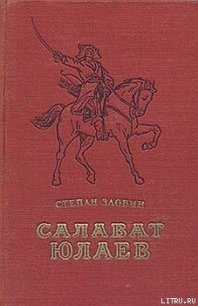Разин Степан - Чапыгин Алексей Павлович (читаем полную версию книг бесплатно .TXT) 📗
Царь сошел с трона, взял в руки посох, сказал Пушкину:
– Ино, боярин Иван Петрович, кончим с делами, все едино не решим всего. А, Савинович, ставай – негоже отцу духовному по полу крест святой волочить… И надо бы грозу на тебя, да баловал я Андрея-протопопа многими делами, и сам тому вину свою чувствую. Станько, Савинович!
Протопоп встал.
– И пошто ты в образе бражника в государеву палату сунулся? А пуще – пошто святейшего патриарха Акимкой кличешь? То тебе не прощу!
– Казни меня, дурака, солнышко ясное, царь пресветлый, да уж больно у меня на душе горько!..
– Горько-то горько, да от горького, вишь, горько.
– Ой, нет, великий государь! Патриарша гроза не пустая – опосадит Андрюшку на цепь…
– И посадит, да спустит, коли заступлюсь, а заступу иметь придется мне – ведаю, что посадит… Патриарх – он человек крутой к духовным бражникам.
– А сам-от, великий государь, к черницам по ночам…
– Молчи, Андрей! – крикнул царь и, обратясь к Пушкину, сказал: – Нынче, боярин Иван Петрович, в потешных палатах велел я столы собрать да бояр ближних больших звать и дьяков дворцовых, так уж тебя зову тоже… Немчин будет нам в органы играть, да и литаврщиков добрых приказал. А за пиром и дела все сговорим.
Обернулся к протопопу:
– Тебя, Андрей Савинович, тоже зову на вечерю в пир, только пойди к протопопице, и пусть она из тебя выбьет старый хмель!
Царь засмеялся и, выходя из палаты, похлопал духовника по плечу.
– Великий государь, солнышко, сведал я о твоем пире и причетника доброго велел послать за государевой трапезой читать апостола Павла к римлянам, Евангелие.
– Вот за то и люблю тебя, Андрей Савинович, что сколь ни хмельной, а божественное зришь, ведаешь, что мне потребно…
Царь был весел, шел, постукивая посохом; до пира еще было много времени.
Встречные бояре кланялись царю земно.
2
В горницу Приказной палаты к воеводе вошел Михаил Прозоровский. Старший – Иван Семенович – стоял на коленях перед образом Спаса, молился.
Младший, не охочий молиться, не мешая воеводе разговором, сел на скамью дьяков у дверей. Воевода бил себя в грудь и, кланяясь в землю, постукивал лбом, вздыхал. Серебряная большая лампада горела ровно и ярко. В открытые окна, несмотря на август, дышало зноем, ветра не было. От жары и жилого душного воздуха младший Прозоровский расстегнул ворворки из петель бархатного кафтана. Расстегивая, звякнул саблей.
Воевода встал, поклонился, мотая рукой, в угол и, повернувшись к большому столу, крытому синей камкой, сел на бумажник воеводской скамьи.
На смуглом с морщинами лице таилось беспокойство. Он молча глядел в желтый лист грамоты, шевеля блеклыми губами в черной, густой с проседью бороде.
Силился читать, но мутные, стального цвета глаза то и дело вскидывались на стены горницы.
Брат не вытерпел молчания воеводы, встал, шагнул к столу, поклонился:
– Всем ли по здорову, брат воевода?
– Пришел, вишь ты, сел, как мухаммедан кой: где ба помолиться господу богу… Ты же, вишь, только оружьем брякаешь. Навоюешься, дай срок… – Воевода говорил, слегка гнусавя.
– Про бога завсегда помню, да и спешу сказать – ведомо ли воеводе: вор Стенька Разин с товарыщи Басаргу пошарпали, святейшего заводы?
– Лень, вишь!.. Молитва бока колет, хребет ломит, шея худо гнетца… Про Басаргу давно гончий государю послан. Продремал молодец!.. Вот молюсь, и тебе не мешает – пришел гость большой к Астрахани, да еще тайши калмыцкие шевелятся: хватит ужо бою, не пекись о том.
– Астрахань, братец, стенами крепка. Иван Васильевич, грозной царь, ладно строил: девять и до десяти приказов наберется одних стрельцов, в пятьсот голов каждый. Сила!
– Стрельцы завсегда шатки, Михаиле, чуть что – неведомо к кому потянут, не впервой… Вот послушай, Калмыцкие князьки, начальники.
Воевода крикнул:
– Эй, люди служилые! Пошлите ко мне подьячего Алексеева…
В Приказной палате за дверью скрипнули скамьи, зажужжали голоса:
– К воеводе!
– Эй, Лексеев!
– Воевода зовет!
– Подьячий, ты скоро?
Вошел в синем длиннополом кафтане сухонький рыжеволосый человек с ремешком по волосам, поклонился.
– Потребен, ась, князиньке?
– Потребен… Вишь, грамоту толмача худо разбираю, вирано написано. Сядь на скамью и чти. Знаю, не твое это дело, твое – казну учитывать, да чти!
– Дьяку ба дал, ась, князинька, Ефрему, то больно злобятся – все я да я…
– Сядь и чти! Пущай с тебя нелюбье на меня слагают.
– Тебя-то, князинька, ась, боятся!
– Чти, пущай слышит князь Михайло.
Подьячий отошел к скамье и не сел, стоя разгладил грамоту на руке.
– Сядь, приказую!
– Сидя, князинька, ась, мне завсегда озорно кажется.
– Сядь! Лежа заставлю чести.
Подьячий сел, дохнув в сторону вместо кашля, и начал тонким голосом:
– «Тот толмач Гришка сказывал и записал им, что-де собираютца калмыцкие тайши многи, а с ними старые воровские Лаузан с Мунчаком, кои еще пол третье-десять лет назад тому воровали с воинскими людьми, а хотят идти под государевы городы – в Казанской уезд и в Царицын. Да один-де тайша пошел к Волге, на Крымскую сторону, под астраханские улусы на мирных государевых мурз и татар для воровства, да в осень же хотят идти в Самарский уезд. От себя еще показывали кои добрые люди, что-де в Арзамасе на будных станах боярина Морозова – нынче те станы за князьями Милославскими есть – поливачи и будники [231] забунтовались… Сыскались многие листы подметные, что-де «Стенька Разин пришел под Астрахань и на бояр и больших людей идти хочет!». Да в Казанском и Царицынском краях хрестьяне налогу перестали давать денежную и хлебную воеводам, а бегут по тем листам подметным к Астрахани: помещиков секут, поместя жгут, палом палят. Кои не сбегли, те по лесам хоронятца, кинув пахоту и оброки. А больше бегут бессемейные. И вам бы, господа воеводы астраханские, те вести ведомы были».
– Поди, подьячий! Князь Михаиле слышит грамоту, знает теперь, пошто я бога молю да сумнюсь.
Подьячий поклонился, вышел в палату и вернулся:
– Тут меня, князинька, ась, чуть не погубили люди, что я тебе на дьяков довел о скаредных речах.
– Поди, я подумаю и с тобой о том поговорю.
Подьячий снова поклонился и снова, уйдя, вернулся.
– Еще пошто?
– Тут, князинька, ась, пропустить ли троих казаков, от Стеньки Разина послы – тебя добираютца?
– Поди и шли! Каковы такие?
Вошли три казака, одетые в кафтаны из золотой парчи, на головах красные бархатные шапки, унизанные жемчугами, с крупными алмазами в кистях.
– Челом бьем воеводе!
– Здорово жить тебе!
– От батьки мы, Степана Тимофеича.
– Да, вишь, казаки, все вы зараз говорите, не разберу, пошто я занадобился атаману. Там без меня есть воевода управляться с вами, князь Семен Львов.
– Князь Семен само собой – ты особо… К Семену с моря шли по зову его и государевой грамоте.
Выдвинулся вперед к столу казак, похожий лицом на Разина, именем Степан, только поуже в плечах, сутулый, с широкой грудью. Он вынул из-под полы ящичек слоновой кости, резной. Поставив на стол перед воеводой, минуя грамоту, лежавшую тут же, раскрыл ящик. В ящике было доверху насыпано крупного жемчуга.
По-лицу воеводы скользнула радость. Мутные глаза раскрылись шире.
– За поминки такие атаману скажите от меня спасибо! И доведите ему: пущай отдаст бунчук, знамена, пушки, струги морские да полон кизылбашской.
– Тот полон, что вернуть тебе велел атаман, у Приказной весь – десять беков шаховых, кои в боях взяты, да сын гилянского хана Шебынь, – их вертает, а протчей, воевода, нами раздуванен меж товарыщы. Тот полон атаман дать не мочен, по тому делу, что иной полоненник пришелся на десять казаков один, а то и больше. Тот полон, воевода, иман нами за саблей в боях, за него наши головы ронены… Да еще доводит тебе атаман, чтоб стретил ты его с почестями!
231
Рабочие поташных заводов.