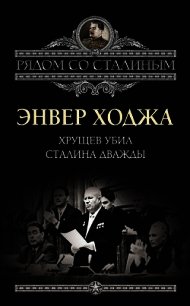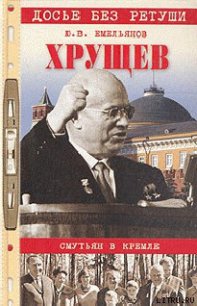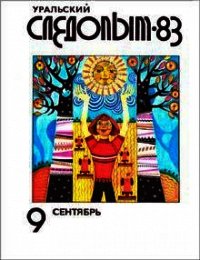Рожденные на улице Мопра - Шишкин Евгений Васильевич (читать полные книги онлайн бесплатно TXT, FB2) 📗
— Мелочи, пожалуйста, дайте! Хлеба купить… Мелочи, пожалуйста, — клянчил солдат у входящих и выходящих покупателей. Не у всех, выбирал женщин или мужчин старшего возраста.
Павла в какой-то момент будто перевернуло вверх тормашками. Стиснув зубы, он кинулся к солдату, с недюжинной силой сграбастал его за ворот шинели и за ремень, оттащил за угол магазина и влепил наотмашь пощечину — расквасил нос.
— Прочь! Вон отсюда! Подлец! Армию позоришь! Ты же солдат, а не нищий! Не бродяга! Вон отсюда!
Солдат рукавом шинели утирал кровь из носу, швыркал, ничего не говорил, не оправдывался. Он сперва, видно, не признал командира полка, а потом отшатнулся от Павла, рванул бегом прочь. Косолапо зашлепал по весенним лужам и поселковой грязи. Полы шинели тряслись. На бегу у него с головы упала в лужу шапка.
Павел потер ладонь, которой ударил солдата по лицу. Гадостное чувство наполняло его — рука ныла: противно бить человека по лицу, до крови, тем более подчиненного, который тебе не ответит. На душе — укор: «Твой солдат побирается — ты виноват. Ты командир! Ты за всё в ответе!» Что возьмешь с этого замухрышки рядового, он еще и года не послужил (одна желтая полоска на рукаве)! Может, его «деды» послали сшибать деньги, может, служба заставила попрошайничать… Солдат хочет есть, пить, курить. Сегодня для солдата это выше присяги, выше чести… Ему нужно физически выжить! Плевать он хотел на погоны, если на эти погоны плюнуло государство. За солдатом нет настоящей боеспособной армии, нет цельного народа, нет страны…
В поселковый магазин Павел Ворончихин не пошел.
В поезде, по дороге на родину, рука у Павла все, казалось, ныла от бесправного мордобоя. Сонм темных мыслей одолевал его.
Армия, народ, страна… Какая-то безжалостная разрушительная сила двигала армией, народом и страной. Высший офицерский корпус, главнокомандующие родов войск, командующие округов, казалось, ничего не решали: у них на глазах деградировали армии, дивизии, полки. Министр обороны Язов, казалось, лишь кивал головой Горбачеву, принимая любое политическое и вещественное унижение армии. Народ, сбитый с толку перестройкой, чуял в проводимых реформах скудоумие власти и подлый подвох, который слитно готовили яростные вражины с Запада и пятая колонна внутри страны. Но народ был безголос, бесправен, оболган и усыплен демагогией вечно блядовитой интеллигенции, дорвавшейся до газетно-журнальных свобод. В вакханалии этих свобод даже идеологические структуры КГБ смолкли и самоуничтожились. Да и сам Горбачев, побираясь перед Западом, казалось, уже ничем не управлял. Всё пошло вразнос: Варшавский Договор, СЭВ, мировой социализм… В стране пылал Карабах, лилась кровь в Киргизии, бунтовал Тбилиси; Прибалтика митингово выбиралась из-под советской оккупации; казахи, у которых до создания СССР никогда не было государственности, нагло выживали русских с исконных казачьих земель, Западная Украина, наливаясь, по примеру польских шляхтичей лютой русофобией, задиралась на москалей, требуя самостийности… Нет, Павел Ворончихин не мог одним замахом мысли объять страну, понять ход современной истории, не мог даже вычленить главное — роковое, — а не понимая этого, не видя врага и очага растления, невозможно было с ними бороться. Даже не ясно было, кому и чему сопротивляться.
Бунт майора Шадрина, который запретил своему сыну Егору поступать в военное училище и сам отрекся от службы, бунт капитана Найденова, готового с отчаяния и горя на самосожжение, бунт самого Павла, побившего несчастного побирушку рядового, не выправят разложение армии, не спасут страну, не изменят ход истории. Бунт должны поднять те, кто способен явственно влиять на положение.
«Кто-то должен поднять бунт на верху! Пресечь!» — думал Павел.
Он стоял в коридоре вагона, смотрел в окно. Москва, многоликая, многокрасочная, фундаментальная и розничная уже осталась позади. Впереди простиралась провинциальная серенькая житуха…
Апрельское тепло очистило землю. Снег лежал только кое-где в ложбинах, в лесу под хвоей разлапых елей, да иногда белел под придорожными грудами мусора. Мимо окон проносились небольшие селения, с убогими надворными постройками и покосившимися заборами, бревенчатые дома стояли темны и казались сырыми, не просохлыми после снежной зимы. Какие нарядные ухоженные селения были в Германии! В побежденной Германии…
По вагону шла группка цыган. Кучерявый цыган с золотыми зубами, за ним двое цыганок: одна старая, широколицая, размалеванная красной помадой, другая молодая, бледная, с огромными кольцами в ушах и с ребенком на руках.
— Эй, ваеный! — негромко сказал цыган. — Водки хочишь? Недорого. Качествинный водка. Очинь качиствинный. Не «рояль»…
— Нет, не хочу, — отмахнулся от цыгана Павел.
Уезжая из Москвы в Вятск, Павел увидал надпись на бетонных придорожных плитах: «Мишка + Райка = две суки».
— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!
— Христос воскресе! — торжественно и напряженно, из последних сил оглашал храм старенький отец Артемий пасхальным призывом.
— Воистину воскресе! — хором отвечали наполнявшие церковь Вознесения люди.
И вновь:
— Христос воскресе! — вещал духовный пастырь.
— Воистину воскресе! — зачарованно и умилительно ответствовала толпа.
Среди радостных голосов и просветленных лиц — голоса и лица отца Георгия, в миру Константина Сенникова, и Павла Ворончихина. Свершилось великое чудо — вознесение Сына Божьего. Вместе с тем будто с плеч каждого верующего свалилась какая-то ноша, давая телу роздых, душе — свет и чистоту помыслов. Взгляд устремлялся на лик Спасителя, губы шептали в слаженном всеобщем порыве:
— Воистину…
Константин и Павел обнялись и троекратно расцеловались:
— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!
Они провели в церкви всю пасхальную вечернюю службу, прошли крестных ходом под хоругвями, с песнопениями вокруг храма, вновь возвратились под пылающие от многочисленных свечей и зажженных ламп расписные своды церкви и теперь радовались со всеми… Радовались тому, что в мире, во всем мироздании что-то непостижимым чудесным образом разрешилось, прозрело и уладилось; радовались запаху ладана и свечного воска, белой сахарной обливке пасхальных куличей и лукошку крашенных в луковом отваре пасхальных яиц; радовались встрече с людьми, незнакомыми, но чуточку родными, объятыми в эту апрельскую ночь всеобщей верой и счастьем воскресения Господа; радовались махоньким мышкам на ветках верб, которыми был украшен храм; радовались тому, что пришел час, когда что-то наносное, хлопотное и суетное, без чего не обходится обыденная жизнь, вдруг становится легковесным, необременительным, превращается в шелуху, под которой наконец-то проступает самое главное, самое истинное, что сокрыто и заключено в словах «Христос воскресе!»
Отсюда, из сверкающего, многолюдного храма Вознесения, Павел Ворончихин даже в тупиковые мрачные углы своей службы смотрел замиренно. Офицерские судьбы, судьба всей армии, народа, страны, казалось, зависели не от каких-то единичных политиков, коалиций или военных блоков, а от вышнего Божьего промысла и покровительства. За трагедией шло воскресение. Способны ли люди управлять трагедией и воскресением после трагедии? Люди пешки, их воля хаотична, будущее — неведомо…
В поселке «Коммунар», вблизи его части, восстанавливали церковь, начались службы, но Павел Ворончихин туда ни разу не захаживал, не хотел дразнить злоязыких сослуживцев: вот, дескать, коммунист челом бьет… Павел не отрекся от ленинской партии, лишь вразрез Ленину считал веру делом сугубо интимным, частным; в этот личный предел он не хотел допускать никого, даже с женой Марией не обсуждал этого. Но здесь, в родном вятском храме, у кладбища, где похоронен отец, рядом с Константином, Павел был пограждански одет, равен со всеми, простодушно открыт и приветлив. Константин, выделявшийся среди паствы монашеской рясой, целовался с кем-то из прихожан, — следом и Павел обнимал незнакомца или незнакомку и говорил ответно в праздничном гуле «Воистину…»