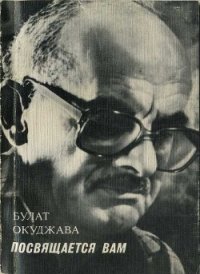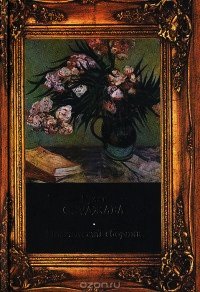Путешествие дилетантов - Окуджава Булат Шалвович (бесплатные серии книг TXT) 📗
69
«…июня 27, 1851
Господин ван Шонховен набрался сил, и вновь все засияло. Мы маленькие люди, несмотря на нашу амбицию; нас легко приструнить, обратить в трепет; правда, против оскорблений мы восстаем, и гневно размахиваем чистыми руками, и совесть призываем в свидетели – вот и все наше оружие. Лишь в пустынной степи да на необитаемых островах расцветают наши души, не боясь окрика, насмешки, тычка, но, как известно, необитаемых островов более не существует, а пустынная степь хороша для фон мюфлингов с толпою услужливых гекторов. Это странный человек! Мы знакомы уже много лет, но он остается загадкой. Его доброта в нашем мире, где каждый думает о себе, безгранична и достойна восхищения. Лавиния глядит на него настороженно, но это юношеский максимализм. Прости ее, полковник. Пребывание в доме Курочкина – еще сюжет для размышлений. Эти несчастные молодые лгуньи, очумевшие от запаха казармы, разве они не достойны жалости? И всюду разлито несчастье, и надо всем – призрак бедной Александрины… Ей нет покоя, и все они, сами того не подозревая, закрыв от ужаса глаза, торопятся за нею следом… Зачем? Куда?… Бедная Александрина! Злосчастный лекарь Иванов, давно позабывший своих сыновей и свою скучную немку, сжег себе внутренности, пытаясь освободиться от бремени воспоминаний. Нынче в полдень он застал меня в садике. Сам был чист и вымыт и даже сначала показался по–прежнему сбитым из сливок, да это лишь сначала. Время не остановишь, сударь, нет. Я успокоился – он был в волнении. Мы говорили обо всем, но только не о том, то есть так нам обоим казалось, не о том, что было, если оно действительно было, ибо для меня все кончилось, когда я назвался спасителем Лавинии. Назвался груздем – полезай в кузов! Он был вежлив, благовоспитан, учтив, но не подобострастен, глядел, как обычно, куда–то вдаль, но теперь это меня уже не шокировало. Теперь мы с ним одинаковы перед миром, и что нам делить? Он говорил всякие скучные пошлости, я слушал, изредка взглядывая на распахнутое окошечко второго этажа, в котором, как на портрете, был изображен фон Мюфлинг. Он был в белой безукоризненной сорочке. Лицо выражало блаженство. В картинно приподнятой руке посверкивала рюмка с водкой. Глаза его были полузакрыты. Это был автопортрет, и, кажется, из лучших. Вдруг лекарь произнес отчетливо:
– Конечно, вы имеете капитал и связи, и вы можете себе позволить роскошь быть щедрым и облагодетельствовать когда и кого вздумается. Конечно, вы и любовь можете приобрести. За хорошие–то деньги чего нельзя? Я был верным исполнителем ваших капризов, то есть желаний там тогда… Я имею в виду Петербург…
– Что такое Петербург? – спросил я. Фон Мюфлинг хмыкнул на своих небесах.
– Город на Неве, – вполне серьезно объяснил лекарь, – столица… Но когда встал вопрос о спасении человека – Фон Мюфлинг неторопливо осушил рюмку, тщательно пожевал что–то кем–то откуда–то поданное, взял новую рюмку двумя пальцами и вновь погрузился в самосозерцание.
– Я знаю, что эти милые провинциальные дурочки рассказывали вам небылицы, – продолжал лекарь, – не верьте им: чего не придумаешь со скуки?… Я сам рассказывал им петербургскую историю в один из грустных вечеров, и это чертовски в них засело, они буквально с разинутыми ртами слушали, как я, как мы там носились по городу и вдоль реки в безутешных и напрасных поисках…
Фон Мюфлинг щелкнул по рюмке пальцем, и тихий звон смутил Иванова.
– …и вся моя последующая жизнь была лишь горьким воспоминанием о загубленной душе той мученицы… – Лицо его скривилось, будто он попробовал эту горькую фантазию на язык… – Господибожемой, – простонал он, – я устал от этой вечной панихиды в моем сердце! А эти дурочки воспринимают все в натуральном свете и дают мальчишкам гривенники, чтобы меня унизить, и я… окончательно… составит… могло… быть… изумлению…
– Почему бы вам не уехать отсюда? – участливо спросил фон Мюфлинг, не меняя позы.
– Ээээ, – сказал лекарь, – это невозможно, милостивый государь. Вот ежели б у меня был капитал, как у князя, и его положение…
«Какое положение!» – захотелось крикнуть мне. Фон Мюфлинг рассмеялся. Иванов, видимо, обиделся, услыхав этот смех.
– Вы с вашими капиталами можете все себе позволить, – произнес он раздраженно, – то есть, может быть, вы и нe злодей, и даже более того – печетесь о добре, но с детства в вашем сознании, то есть ваш мозг с детства осыпан золотой пылью, и вы способны поступать, как она вам велит, и вы, несомненно, человек с самыми благородными правилами, да ваше благородство ведь – что? Ваше благородство от сознания, что вы можете заплатить за любую причиненную боль, и это чтобы потом вас совесть не мучала…
– А судьи кто? – с пафосом вопросил фон Мюфлинг со своих небес.
– Ах, судьи… – сказал лекарь, скривившись весь, и глаза его наполнились слезами, – ваш сарказм, милостивый государь, не имеет силы, ибо я говорю не как судья, а как пострадавший, вот так. И князь обо всем этом знает, оттого и молчит… А знаете ли вы, – вдруг закричал он, разглядывая облака в высоком небе, – знаете ли вы, что я был ей только братом?!
– Да перестаньте паясничать, – сказал я, – вы соблазнили ее и увезли…
– Я?!
– Вы пообещали спасти ее, вы ей внушили, что я эгоист, что меж нами пропасть…
– Я?! Образумьтесь! Куда я ее увез, господь с вами! Разве не мы с вами бегали вдоль берегов и не мы ли с вами истоптали весь анатомический театр?… Я же говорю: вы наслушались этих девок, этих интриганок!…
– А не с нею ли вы к нам приходили чай пить с ежевичным вареньем? – спокойно спросила Адель с крыльца. – Или то была другая?…
– Господибожемой! – застонал лекарь. – Какое униженье перед лицом этих сытых, праздных и счастливых!
– Ну, знаете, – возмутился фон Мюфлинг, – это уже черт знает что…
– Аделина, – вдруг тихо позвал лекарь, – да разве я спорю? – и провел пальцем по запекшимся губам. – Вы бы дали мне рюмочку этой… ну там есть у вас такая, на смородинном листе…
Она притворилась глухой. Я – слепым. Фон Мюфлинг – счастливым. Иванов церемонно поклонился и исчез средь сиреневых кустов.
– Б’дняжка, – сказал фон Мюфлинг, – совсем потерял гол’ву…
– Я вам крайне признателен, – сказал я полковнику, – вы совершили подвиг, потратив столько дней из своего отпуска ради такой безделицы, как мои неудачи.
Фон Мюфлинг хмыкнул и сказал из своей рамы:
– Вы и не поверите, князь, как от вас и от вашей очаровательной мужественной спутницы… от вас вместе… как от вас двоих… как вы оба можете влиять на судьбы людей, на судьбы многих, связанных с вами невидимыми узами… поверьте… – И он опрокинул рюмку, переждал и продолжил, стараясь отчеканивать каждое слово: – Вы не поверите, как все вообще связано меж собой… на этом свете. Какие ниточки между нас… меж нас… меж нами. Как все хитро, остроумно, безвыходно и оскорбительно, и ничего не попишешь – приходится… вертеться… Я все время пытаюсь сообщить вам нечто важное… Вы, конечно, заметили, что я хочу вам сообщить нечто важное…
– Я слушаю, – сказал я, и тонкий комариный, тоскливый, отвратительный звон дошел до моего слуха, – вы уже слишком много сделали для меня…
– Вы думаете? – грустно улыбнулся он. – Я все время хотел сообщить вам нечто важное… – И повторил упрямо: – Это важное… это я хотел сообщить вам… Пр’ставьте с’бе… и я сам с’бе все у–слож–нил…
Внезапно автопортрет моего спасителя исчез. Осталась рама и черный фон за нею…»
«…июня 28…
Мне надоело, выходя по утрам из комнаты, натыкаться на распростертое у дверей тело спящего Гектора, и я сказал об этом фон Мюфлингу. Он крайне удивился и тут же в моем присутствии отчитал слугу. Гнев его был столь силен, что казался искусственным. «Я приношу свои извинения, – сказал трезвый и благоухающий фон Мюфлинг, – скотская привычка спать на полу». Я очень благодарен ему за все, что он для вас совершил, но его приятельство начинает меня угнетать. Совместного путешествия я не выдержу, но как сказать ему об этом? Он горит им, фантазирует, целует ручки Лавинии и подмигивает мне заговорщически, а я не могу придумать ни одного мало–мальски убедительного предлога, чтобы отказать ему в его радости. При несомненном уме, тонкой наблюдательности, благородстве есть в нем что–то такое простодушное, детское, непосредственное, и я не удивлюсь, если он предложит вести совместный дневник в одной тетради или что–нибудь в этом роде…