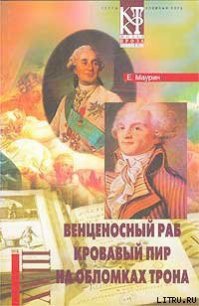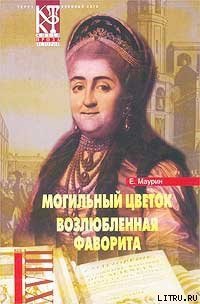Кровавый пир - Маурин Евгений Иванович (книги полностью .txt) 📗
Робеспьер искоса взглянул на Лебефа и усмехнулся его бледности и подавленности. Но он ничего не сказал. Молча поздоровавшись с ним, Робеспьер повел его в сад.
Молча пошли они по дорожкам сада: один – молодой, но хилый, с нездоровым землистым лицом, с блуждающими глазами фанатика, другой – придавленный, но не согнутый бременем тяжелой судьбы и лет, с лицом, просветленным старческим опытом, с детски-чистым взором.
Сбивая тросточкой придорожные травинки, Робеспьер начал:
– Я узнал сегодня, что ты, гражданин Лебеф, берешь на себя защиту одного из обвиняемых «процесса десяти». Почему же ты, которого я справедливо считаю столь близким и родственным себе по духу и добродетели, должен вечно становиться мне на дороге в моих заботах о благе страны? Пойми меня, гражданин, если бы на твоем месте был кто-нибудь другой… о, я не стал бы тратить слова! Одно слово, одно движение руки! Но ты… ведь мы с тобою служим одному богу, мы поклоняемся одному алтарю… Почему же наши дороги сталкиваются, почему не идут они рядом?
– Нет, гражданин, – тихо и скорбно ответил Лебеф. – Не одному богу служим мы с тобою! Мой бог – право, законность, справедливость!
– Значит, по-твоему, действия революционного правительства лишены права, закона, справедливости?
– Ты сказал…
В глазах Робеспьера вспыхнул фанатический огонек, лицо исказила бледная, грустная усмешка.
– Право, закон, справедливость! – с задумчивой иронией повторил он. – Слова, слова и слова! Волк хочет есть и утаскивает единственную овцу у крестьянина, а крестьянин хочет есть и убивает волка, чтобы сохранить овцу. Кто прав из них? Оба, а значит – никто! Только необходимость может оправдывать, осмысливать поступок… Закон! Но если революционное правительство вынуждено быть более энергичным, более свободным в своих действиях и движениях, разве в силу этого оно становится менее справедливым и законным? Нет, гражданин, оно опирается на самый священный из законов – благо народа, и на самое неотъемлемое из всех прав – необходимость!
– И эту необходимость ты усматриваешь в гибели какого-нибудь Ремюза?
– Друг Лебеф, ты видишь личность там, где я вижу только принцип! Я говорю: закон необходимости приказывает очистить Францию от всякого элемента опасности. Эту опасность я вижу в самой природе аристократа. Вот мой принцип! Будет ли казнено десять аристократов, девять или пятнадцать – не все ли равно для Франции? Но для Франции не все равно, если будет поколеблен самый принцип ее права руководствоваться лишь необходимостью! Для Франции не все равно, если такие мечтатели, как ты, совлекут ее с пути законной защиты на путь правовой щепетильности! Тебе кажется ужасным, если среди многих виновных случайно пострадает невиновный. Ну, а для меня… Да, если бы половине населения Франции надо было погибнуть, чтобы остальная половина могла быть счастлива, если бы я сам был в числе первой половины, я, не колеблясь ни минуты, подписал бы приговор этим миллионам невинных людей и первый бестрепетно повел бы их на казнь!
– А я… – грустно возразил Лебеф. – Если бы для счастья всей Франции нужно было казнить десятерых и если бы смерть их зависела не от их доброй воли, а от моего приговора, – я отказался бы подписать такой приговор и сказал бы всей Франции: «Вы не имеете права на счастье, если оно зиждется на гибели невинных!» Но к чему мы будем говорить о вещах, в которых никогда не могли сойтись, в которых никогда не сойдемся? Ты прав, гражданин, нас с тобою многое связывает, у нас много общего – хотя бы в том, что оба мы не преследуем никаких личных целей. Но наши пути различны, нам их не сблизить, не объединить… Зачем же столько слов? Участь Ремюза предрешена тобою, я вижу это. Может быть, ты даже запретишь мне выступать с защитой? Что же, там, где справедливость, право и закон заменяются одним словом «необходимость», это будет понятно и логично…
Лебеф замолчал, грустно поникнув головой. Молчал и Робеспьер, нахмуренный лоб которого отражал напряженную работу мозга. Наконец он сказал:
– Я ничего не предрешал. Но ответь мне сначала на несколько вопросов. Почему именно ты взялся за защиту Ремюза?
– Меня просил об этом аббат Жером.
– Ага! Под ризой монаха сказалась кровь маркиза де Суврэ [4]! Видно, свой своему поневоле брат!
– Полно, гражданин, разве ты не знаешь, что отец Жером совершенно порвал с аристократическими кругами и всецело посвятил себя народу? И разве он не одним из первых принес гражданскую присягу?
– Что же заставило его ходатайствовать за Ремюза?
– Отец Жером сказал мне, что, казнив Ремюза, республика потеряет одного из тех людей, которые как раз нужны для ее блага и процветания.
– Вот как? Громко сказано!.. Но к этому мы еще вернемся, а теперь объясни мне вот что: почему же ты из всех обвиняемых защищаешь одного только Ремюза? Его ты считаешь невиновным. Значит, в виновности остальных ты уверен?
– К чему употреблять выражение, от которого ты сам открещиваешься, гражданин? Что значат виновность или невиновность? Сам же ты сказал, что волк не виноват, если, подчиняясь своей природе, тащит овцу у бедного крестьянина. Аристократ, защищая дело роялизма из убеждения, поступает доблестно и честно. Но его интересы противоположны интересам народа, и народ ограждает себя, устраняя его.
– Я понимаю виновность как вред государству!
– Ну, так из всех обвиняемых трое сознались, четверо скомпрометированы, хотя их вредоносность отнюдь не доказана. А двоих – Лион д'Анжера и Нивернэ – обвиняют лишь в том, что они аплодировали на представлении пьесы «Адель де Саси». Да ведь актриса, игравшая заглавную роль, подруга сердца Нивернэ, а д'Анжер хлопал, чтобы поддержать приятельницу друга! И подумать только, что обоих этих молокососов, которые так же мало заботятся о роялизме, как и о народоправии, для которых вся жизнь заключается в попойках, вине и картах, обвиняют в каких-то замыслах против идеи, которая их не трогает! Все это было бы очевидно для всякого суда, но только не для революционного. Для ваших судей мало доказательств, что обвиняемый не был плохим патриотом, а необходимо еще доказать, что он был хорошим. Троим первым моя защита не нужна: их вина очевидна. Шестерых других я мог бы защитить в приписываемых им дурных намерениях, но не мог бы доказать, что у них были хорошие. Им я все равно не помог бы, только общая защита могла бы скомпрометировать последнего – Ремюза.
– Значит, у тебя имеются доказательства, что Ремюза добрый патриот?
– Да, гражданин!
– Вот как? Какие же?
– Ремюза отказался от дуэли с Морни потому, что считал свою жизнь принадлежащей отечеству. Как раз в момент ареста он писал заявление о желании поступить в национальную армию, но комиссар Крюшо, арестовавший его, почему-то скрыл этот факт. Затем, помнишь ли, гражданин, брошюру «О задачах конституционного и революционного режимов»?
– Подписанную «гражданин Азюмер»? Еще бы! Я был поражен сходством мыслей этого Азюмера со своими собственными и чрезвычайно жалел, что не мог дознаться, какой добрый патриот скрывается под этим именем!
– Ну так прочти его наоборот, и тебе станет ясным, что Азюмер, это – Ремюза!
Робеспьер резко остановился и от волнения даже схватил Лебефа за руку.
– Может ли это быть? – пробормотал он. – Так это – Ремюза? «Задача конституционного правления – сохранить республику, задача революционного – создать ее. Можно ли охранять то, что еще не окончено созиданием? Можно ли требовать конституционных гарантий от революции?» А дальше! «Революция – война свободы против тирании и рабства; конституция – режим победоносной свободы. Лицемеры! Можно ли испечь хлеб, не размолов зерна? Вы же требуете хлеба и негодуете, когда мелют муку!» Но ведь это – мои мысли, Лебеф, мои собственные, кровью мозга выношенные мысли! И этого-то человека… Иди, Лебеф, иди! Иди, и да благословит тебя Высшее Существо!
– Значит, ты ничего не имеешь против моей защиты, гражданин? – спросил обрадованный Лебеф.
4
Имя отца Жерома до пострижения. (См. романы Эттингера «В чаду наслаждений» и «Возлюбленная фаворита», изд. А. А. Каспари.)