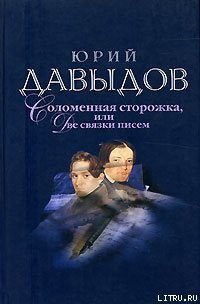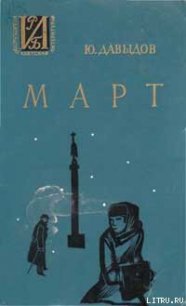Глухая пора листопада - Давыдов Юрий Владимирович (читать книги полностью без сокращений бесплатно TXT) 📗
– Жарко, можно и отдохнуть.
Унтер выразительно покосился на дверь. Шерохнул «глазок»: подглядывали из коридора… Они опять ходили молча. И вдруг Златопольский, как по наитию, назвал свое имя. Унтер не обязан был знать его имени, унтеру это запрещалось, он должен был знать его номер, соответствующий номеру каземата: шестьдесят второй. Но унтер кивнул, и кивок означал: «Запомню!»
– Вы давно в службе? – тихонько спросил арестант.
– Могут услышать, – суфлерски ответил стражник.
И это «могут услышать» решило все. Златопольский рывком отвернул кран, вода бурно засипела. Златопольский опорожнил ковшик и еще один, без передышки… Потом арестант и стражник обменялись несколькими торопливыми словами. Суть была не в словах. Суть была в том, что они были произнесены.
Господи, как он пережил двое суток ожидания? И вот опять в камере номер шестьдесят два дежурил унтер-офицер, награжденный шевронами за беспорочную службу.
– Мартыновский, Зунделевич, Тригони, Кобылянский, – шептал Ефимушка.
Он словно бы рекомендации показывал. Народовольцы, названные им, содержались на каторжном положении здесь же, в Трубецком бастионе Санкт-Петербургской крепости.
Всем им услуживал Ефимушка Провотворов. Однако конспиративных адресов уже не было, а Златопольский, «свежий», имел такие явки, которые, как он надеялся, пока не провалились. Следовало торопиться. И не следовало торопиться. Он не смел рисковать. Он должен был рискнуть.
Еще одно дежурство, и прямой, в упор, вопрос: «Не отнесешь ли записку в город?» Унтер трудно, как мужик на торгах, молчал. Потом ухнул: «Две тыщи!»
Не сумма изумила, все равно таких деньжищ не было, изумила хватка Ефимушки. Не играет в сочувствие «несчастным», а ребром: две тыщи – и шабаш. У Нечаева в равелине солдаты действовали «по совести»: это уж после Нечаев просил товарищей ссужать их деньгами, да и то небогато, чтоб не запили. А этот – малый не промах: плати, и баста.
Златопольский не торговался. Была не была, лишь бы начать. Другое неотступно мучило: а не ставит ли дошлый унтер и на бога и на черта, не переметный ли, куда как прыток, а ведь знает, каково придется, коли накроют.
Ничего еще, в сущности, не произошло, но Златопольскому уж в камере просторнее. Слабенько, но будто дунул ветер воли. Нет, не грезил о побеге, в голове роились планы постоянных сношений «мира мертвых с миром живых». В подпольных изданиях, в заграничных изданиях виделась рубрика: «Письма из Петропавловской крепости». Пусть узнают люди о бастионном режиме, пусть «Письма» послужат революции, пусть стучат в сердца спящих, вызывая гнев и сострадание, ибо сострадание и гнев ведут за руку Действие.
Все это хорошо, стройно уложилось в голове Златопольского, потому что он уж несколько переменился в тюремных глухих стенах. Он верил, что сострадание непременно предполагает действие. Он не хотел принять в расчет разрыв, дистанцию, какие сохраняются между состраданием и опасным действием у людей, поглощенных хлопотами повседневности. Но разве из этого следовало: не стучите, ибо не отверзется?
Он уже не перекладывал с места на место песок бессмыслицы, как перекладывал гимнастики ради речной песок в тюремном дворе. Простеньким шифром составил краткую записку, адресовал легальному, студенту Военно-медицинской академии, – потянул первое звенышко длинной путаной цепочки.
Полетел Ефимушка на Выборгскую, отыскал студента, такой оказался мозглячок. Передал, исполнил в точности. Правда, арестант нумер шестьдесят два не сулил тотчас тыщи, но вроде бы и намекнул. Оно понятно, заломил-таки Ефимушка.
Однако надо ведь и в его положение вникнуть. Не шутки шутит – или голова в кустах, или… У него свое на мушке. Аннушка в полюбовницах, ах, малина-баба, так это они сладко сладились, пора и под венец. Да вот Аннушка медлит. Сперва уж так-то, мой ясный, расстарайся, чтоб нам, говорит, собственную торговлишку завести, надоело, говорит, мне мадамочек обшивать. А расстарается Ефимушка, тогда уж мундир долой, из крепости долой, его высокоблагородию смотрителю Леснику под козырек, прощевайте, господин майор, был у вас, дескать, унтер Провотворов верный слуга, а теперича кум королю, сват министру. И заживут они с Аннушкой, совет да любовь. Вот у него какой прицел.
Преступники государственные, хоть и не злодеи вовсе, как начальство толкует, но распробестии, а только и он, Ефим Провотворов, тоже не лыком шит. Понимает: и на старуху бывает проруха, не ровен час обремизишься, во сто глаз и за унтерами присмотр. Ну, на такой-то случай… Ха-ха! Прозапасный ход имеется, не лыком шит Ефимушка, не прост. Ему бы поскорее расстараться, как Аннушка-умница наставляет, да и концы в воду. А уж лавочку в низке они приглядели, хороша лавочка, в Архиерейском переулке, аккурат там, где Аннушка квартирует. Ну заживут, эх, заживут, совет да любовь.
Поначалу его все испытывали, в Архиерейском переулке рассматривали. Да и он, не будь плох, Аннушку подпускал: последи-ка, куда вон тот господин стопы направил. И две-три записочки Ефимушка припрятал, не отдал. Тоже, стало быть, если заминка, нате, мол, вашескородь, я это, богом клянусь, для пользы службы. А двумя тысячами, правда, лишь но губам мазнули. Ладно… Полегоньку съехал на пятьсот, на том и уперся всеми копытами. Получал в рассрочку четвертным, получал и красненькими – прикапливал.
Обе стороны держались начеку. Но «голубиная почта» действовала в общем-то исправно, словно бы городская, однако в отличие от городской, минуя «черный кабинет», перлюстрацию минуя. И газетки объявились в Трубецком, и вечное перо доставил Ефимушка, и писчую бумагу.
Снега обкладывали крепость. Долгие, то вьюжные, то звездные ночи влеклись над крепостью. Стужа пронизывала камень бастионов. Дымили печи, отзванивали куранты. И в высокой пасмурности коченел на шпиле архангел с трубою.
Не было в «мире живых» решительной, сердитой Веры Топни Ножкой, неутомимой Веры Фигнер. Тихомиров – это авторитет, но не сравнишь его с Верой. Как допустили? Как не уберегли?.. Снег, снег… Молчит архангел. Вере грозит смертная казнь. Обмер Златопольский, когда Провотворов шепотом: «Здесь, в бастионе-с». В тот день он ни о чем не говорил с Ефимушкой.
Потом он послал ей привет, несколько ласковых слов. Она отозвалась «проверочной» запиской два-три наводящих вопроса. Он ответил. И получил шифром: Дегаев бежал из тюрьмы, еще не все потеряно.
Дегаев, Сергей Петрович Дегаев, отставной штабс-капитан артиллерии. Он, Златопольский, ввел его в кружок кронштадтцев. «Вываренной тряпкой» ругнул Дегаева кто-то из товарищей. Гм, «вываренная тряпка…». Исполнителен, это да, только вряд ли дождешься от него инициативы, энергии. Но, может быть, ошибка? Бывает и так. Вере лучше знать… И все ж он не разделяет Вериного оптимизма. Однако если Дегаев бежал, сумел бежать, значит, есть в нем искра. Дегаев бежал, а Вера здесь, рядом, на Вере синий халат, желтые кожаные коты, она в том одеянии, в котором ходят «состоящие под следствием»…
Фигнер привезли в бастион на другой день после «смотрин» в кабинете генерала Оржевского. Генерал еще изящно рысил по гостиным, еще рассказывал, пощелкивая пальцами, как она срезала графа Дмитрия Андреевича, а глухая карета уже доставила «ужасную женщину» в крепость, и уже гремели шаги и железо, и уже надели на нее мерзкую, травленную по?том дерюгу. Генерал-лейтенант еще скакал по гостиным, его сиятельство граф Дмитрий Андреевич, затворившись дома, услаждался Горацием, а директор департамента полиции уже фиолетово, тонко и строго, без завитушек, выставил свое имя под секретным документом. В том документе, «совершенно доверительном», предписывалось коменданту Санкт-Петербургской крепости иметь строгое наблюдение за наиважнейшей государственной преступницей.
В каземате была она с середины февраля восемьдесят третьего года. И с февральских тех дней Златопольским владела мысль о побеге: ее, Верином, побеге из крепости. Он сознавал не трудность, нет, почти невозможность, почти безумие своих проектов. Он сознавал, что те, кому он пишет, слишком неопытны, слишком малосильны. Но писал. Писал намеками…