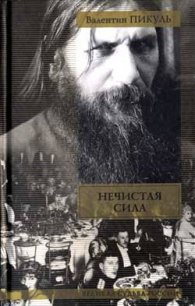Слово и дело. Книга первая. Царица престрашного зраку. Том 2 - Пикуль Валентин (полная версия книги .TXT) 📗
– Врете – ведаю!..
Через срок опять приволокли в пытошную. Горел огонь.
На стене, что насупротив дыбы, висли клочья волос.
В крови, в мозгах, в кале человечьем.
«Бедные, – пожалел Шубин. – Кто же страдал тут до меня?..»
– Кто ты есть? – спросил Ушаков, очки вздевая.
– Сам знаешь, – заплакал Шубин. – Чего мучаешь?..
Каты взяли банные веники – сухие, шелестучие. И те веники в огонь опустили. Одежонку велели скинуть и лечь.
– Ладно, – сдался Шубин. – Противу огня слаб я… Быть по-вашему, звери: Иван я есть, а родство не помню… Везите уж!
И повезли его – долго-долго, месяцами волокли через места пустые. Да все кибиточкой, да все под войлоком. И опомнился Шубин уже на Камчатке: стоял перед ним хиленький попик и держал обручальные кольца, дешевенькие…
Шубин повел глаза в сторону от себя – налево: о ужас-то!
Венчали его с камчадалкой – старой, дряблой и грязной.
Вынула она изо рта трубку и подмигнула слезливым глазом.
– Нисяво… нисяво… – сказала.
Заплакал он и продел палец в обручальное кольцо.
Первые годы все спрашивал, сидя сутками на берегу моря:
– За што? О господи, знаешь ли ты – за што?..
А потом и спрашивать перестал. И потекло время. Безжалостное. И забегали в чуме дети. Не цесаревнины. Камчадальские.
Были они, эти дети, очень на Шубина похожие. Там, с детьми своими на берегу моря играя, Шубин забыл русский язык…
…
До большого колокола Ивана Великого, от самого Красного крыльца кремлевского, протянули канат длиннющий. А высота-то – ну и высота же! Шапка падает… И на канате том, над головами мужиков и баб, плясал босой персианин. Потом выкатили на площадь бочки с вином. Анна Иоанновна на крыльцо вышла, бросала медяки в народ, празднуя, что от Гиляни избавилась.
– А вину, – крикнула в толпу, – даю употребление вольное!
Сие значило: коли до бочек живым пробьешься, то пей вволю, сколько душа примет. Перс-канатоходец видел со страшной высоты, как ринулся площадной народ в свалку… Стража потом питух разогнала, со дна бочек изъяли мокрые в вине шапки – утопшие.
– Эй! – трясли шапками на площади. – Чей треух?
Никто не признавался: как бы не попало. Перс еще долго плясал в розовом вечернем небе, потом спустился вниз. А императрица выходила слонов встречать. Как танцора, так и слонов прислал ей в подарок Надир за уступку Гиляни… Надир, звезда которого быстро разгоралась на Востоке, оказался очень хитрым дипломатом: пусть Россия поможет ему турок изгнать, или… Или пусть сама уходит из Персии! Остерман решил, что лучше уйти.
Артемий Петрович Волынский появился в царском Анненгофе, вполне прощенный. Держался скромником, остро поглядывая на Остермана. Прожигал его насквозь своими глазами, и Остерман не выдержал:
– Артемий Петрович, небось до меня нужду какую имеешь?
Волынский нагнулся и – в ухо кабинет-министру:
– Ночь-то, граф, черная. Вода в каналах темная. Плывите и далее. Но себя щупайте: уж не дьявол ли вы?
Намек был неприятен Остерману, и он отъехал на коляске.
– Озорник, – сказал издали. – Богохульство ваше ни к чему…
Раздался грохот ботфортов, кованных плашками из меди. Во дворец Анненгофа прибыл фельдмаршал князь Василий Долгорукий.
– Что слышу я? – вопросил, озираясь. – Нешто правда, будто Гилянь обратно хотят отдать? Кто зло сие придумал для России в бесчестие? Кто?
Остерман притих в колясочке. Из покоев своих величаво, шажками мелкими, выступила императрица:
– Чего кричишь, маршал? Или тебя обидел кто?
– Не меня, не меня… То русского солдата обидели!
– Да будет тебе, – отмахнулась Анна Иоанновна со смехом. – Разве же я русского солдата обижу когда?
– Выслушай, великая государыня! Семь потов в тех землях сбрызнуто, семь кровей пролито… Россия встала на море Каспийском ногою твердою! Лежат от Гиляни шляхи прямые – на Тегеран, Шахруд, Герат, Кандагар… Так почто же дарить задарма обратно? Добро бы соседу хорошему… А то ведь – кому? Надиру! Разбойнику!
– Уйди, – велела Анна, – от крику твоего голова болит…
Фельдмаршал развернулся и заметил Волынского.
– Друг Артемий, – слезно взмолился старик, – ты русским послом был в Персии, так скажи: разве можно кровью завоеванное за канатного плясуна да слонов отдать? Земли-то каковы, сам ведаешь! Русь чрез те завоевания богатство вечное обрела, она морем плывет в Индию… Сердце наше в Европе колотится, но телом большим мы по Азии разлеглись. В делах восточных укреплять себя надо, а не транжирами быть глупыми…
Волынский решил Остермана не щадить: теперь он снова силу обрел – за ним ведь граф Бирен стоял (с конюшнями его, с аргамаками его). И он так отвечал – во всеуслышание:
– Согласен я с тобою, фельдмаршал: придворные той крови и того поту не нюхали… Чужакам ничего не жаль! А вот нам… эх!
Остерман съежился на дне своей коляски.
– Это вы, – выкрикнул, – преступно повинны в том, что моря крови русской пролиты на Гиляни… Ради чего?
Фельдмаршал Долгорукий схватился за коляску:
– Кровь ради отечества пролита… чурбан ты немецкий!
И вдруг покатил Остермана… Все быстрее, быстрее!
Впереди уже двери. За ними – арапы дежурят.
Выбил коляской двери, повалив арапов, выпихнул Остермана прочь из зала… Граф со своей колесницей так и врезался в стенку.
Тут к нему угоднически, как собачка, подбежал принц Людвиг Гессен-Гомбургский:
– Ваше сиятельство, неужели… Неужели простите?
Остерман посмотрел на него – снизу, тяжело:
– Вы… ничтожество! Остерман не таков, как ваша сомнительная светлость: он никогда ничего никому не прощает… Можете подойти к фельдмаршалу и сказать, что дни его сочтены! А в этом поможете мне… вы, принц! И не отказывайтесь, – усмехнулся Остерман. – Жезлы фельдмаршала на улицах не валяются. А вам, ничтожество светлейшее, этот жезл еще пригодится…
– Мне? Какое счастье! – замлел принц.
– Да, – покривился Остерман. – Этой палкой вы будете хвастать потом перед дамами, рассказывая о своих подвигах!
…
Собрались одни только русские – чужаков не было: сам фельдмаршал Василий Владимирович, адъютант Егорка Столетов, племянник Юрка Долгорукий, прапорщик Алексей Барятинский и жена фельдмаршала Анна Петровна (старуха уже). Сначала жулярский чай попивали, потом маршалу воду гонять прискучило, он чашку ополоснул от чая:
– Травка сия вину не товарищ… Эй, Юрка! Плесни винишка…
Племянник разлил вино, стали тут все пить, руками махали.
Егорка Столетов так сказал:
– Петр Первый сквалыга был: он не отдал бы Гиляни!
– Не, – отвечал князь Алешка Барятинский, – он был таков, что из-за копейки давливался. Да и других до смерти давливал!
Фельдмаршал грохнул кулаком по столу – заходили чашки:
– Я Петра не люблю [1], он немца на Русь призвал. И учить меня пожелал. А я и без того дураком не был… От Петра и полезла на Русь тоска бумажная: куды ни сунешься, везде про тебя в бумажку пишут. Я за един день при Петре столько бумаг писал, сколь ранее и за год писать бы не привелось…
Егорка Столетов налил себе еще, выпил и рот вытер:
– Эх, что уж тут! Петр зато просвещать стал…
Фельдмаршал тут его по лбу треснул.
– Вранье! – сказал. – Это все немчура придумала, что Русь до Петра была дикой, а они явились, как советники, и просветили нас! Немцу хлеб сожранный оправдать надо – вот он и придумал сие… Неправда это! Россия и до Петра не блуждала в потемках. Василий Голицын, Ордын-Нащокин, Ртищев, Матвеев – люди были ума зрелого, разума высокого… И русские человецы задворками ума до Петра не ползали. Россия и ранее на столбовой дороге стояла. Европа-то сама могла бы у нас многому поучиться…
– Подъехал кто-то, кажись, – сказал Барятинский.
– Выглянь, Егорушко, – попросила старуха княгиня.