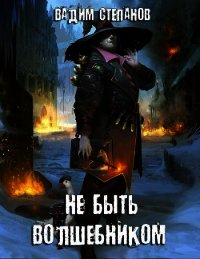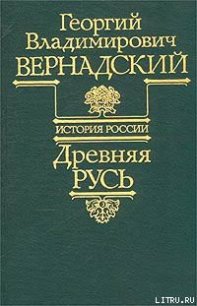Закат в крови (Роман) - Степанов Георгий Владимирович (серии книг читать онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
— Или разве мечта о мировой революции не является химерой русских большевиков? — упрямо твердил свое Сергей Сергеевич. — О ней кричат так, будто она в самом деле возможна. Все ораторы-большевики начинают и заканчивают свои речи лозунгами: «Смерть мировому капитализму! Да здравствует пожар мировой революции!» Вообще, строя планы своих действий, набрасывая и вычерчивая в сознании масс карты будущего, большевики безотчетно принимают, простите меня, картографические обозначения за живую картину будущего… А сущность всякой карты ведь лишь условно соответствует реально существующим вещам, не неся в себе ни малейшего сходства с ней.
— Я многое увидела и поняла за это время. Знаю теперь, что энергия революционной воли любую мечту превратит в реальную действительность. Большевики — профессионалы революции и смотрят на революцию как на дело, и массам они дают сразу и землю, и гражданские права, и власть…
— Но горстка профессионалов революции потерялась в океане, прошу извинить, разбушевавшегося анархизма и невежества. И большевики, фанатически исповедующие материализм, на деле оказываются самыми наивными идеалистами!.. Они убеждены, что их декреты имеют сверхъестественную силу… А я вижу, что им управлять массами не дано… Массы управляются своими инстинктами…
— Сергей Сергеевич! Ну вот пройдет год, не больше, и вы увидите, что большевики никакие не идеалисты и декреты их обуздают мелкобуржуазную стихию и положат конец всякой… архаровщине!..
Они остановились у железной ограды ивлевского двора, и Сергей Сергеевич стал упрашивать Глашу зайти к ним:
— По вас, Глаша, очень соскучилась Елена Николаевна. Зайдите хотя бы на минутку!
— Да ведь я тоже очень хочу ее видеть!..
Елена Николаевна, прежде всегда элегантно и просто одевавшаяся, теперь была в помятом бордовом платье. При виде Глаши она сразу же расплакалась.
— Как только кончились бои, пошла в район кожевенных заводов, исходила там все вдоль и поперек. Чуть с ума не сошла. В каждом убитом мне мерещился Алексей… — Елена Николаевна всхлипнула и опустила голову. — А теперь всего больше тоскую об Инне. Мучает предчувствие беды…
— Ну а зачем отпустили ее? — не удержалась от упрека Глаша.
— Она, не спрашиваясь у нас, ушла… Только на другой день, — сказал Сергей Сергеевич, — мы нашли на ее туалетном столике записку: «Я ушла к Алексею!»
— Каждый раз, как подумаю о ней, сердце сжимает такая смертельная тоска… — жаловалась Елена Николаевна. — Каждую ночь вижу Инну во сне… Она из окна нашего дома, охваченного пламенем, протягивает ко мне руки… А я, точно прикованная, стою у калитки и не могу сдвинуться с места…
— Можно мне на минуту зайти в мастерскую Алексея Сергеевича? — попросила Глаша, видя, что утешить Елену Николаевну не стоит и пытаться.
Сергей Сергеевич провел ее в мастерскую и сказал:
— Я вам сейчас принесу альбом Алексея со страницей, адресованной вам, Глаша.
Когда он вышел, Глаша быстро подошла к мольберту и приподняла простыню.
С холста, натянутого на подрамник, глядели ее глаза, синие, мартовские, излучающие счастье. «Удивительно верно он схватил выражение глаз…» — изумилась Глаша.
Она опустила простыню. Сергей Сергеевич принес потрепанный альбом:
— Вот садитесь и полистайте его.
Глаша взяла альбом и, не садясь в кресло, стоя, принялась разглядывать каждый лист.
Карандашные наброски Ивлева запечатлели исхудавших, с побитыми холками кавалерийских коней, офицеров с хмурыми лицами, заросшими колючей щетиной, трупы, валяющиеся под забором, мальчишеские физиономии юнкеров.
— Рисунки, надо сказать, невеселые, — заметил Сергей Сергеевич. — Судя по ним, закубанский поход был не из легких.
— Да, это верно, — согласилась Глаша. — Но, пожалуйста, храните эти рисунки! Они ведь показывают кусочки гражданской войны…
На последней странице Глаша нашла свой профиль, сделанный карандашом, и несколько строк, обращенных к ней.
«Может статься, — писал Алексей, — эти строки будут словами покойника, адресованными твоей жизни и отзывчивой душе.
Но и тогда, Глаша, помни, что я не был врагом тому, что дорого тебе… Я ушел от тебя за Кубань ради тебя. Я не хотел и не хочу быть врагом народа. Но народ гонит меня и подобных мне во мрак неизвестности. Однако я несу в уголке сердца светлую надежду, что все мы пройдем сквозь этот мрак, и тогда в России вновь образуется для нашей любви место под солнцем. Я вновь стану за привычный мольберт, и ты сядешь у распахнутого окна… Есть в разлуке благо — это воспоминания. И я буду пользоваться этим благом, ибо и в самые роковые минуты жизни не перестану вспоминать о тебе, благородная, славная Глаша. Алексей Ивлев».
Глаша вынула из альбома этот дорогой для нее лист и бережно спрятала его на груди.
Простившись с Сергеем Сергеевичем и Еленой Николаевной, она ушла.
Стоял жаркий день. Знакомые дома, заборы и даже полустертые кирпичи тротуара Штабной улицы напоминали обо всем, что было связано с домом Ивлевых, с Инной и Алексеем. Вот здесь не раз шагал Алексей, и, быть может, сейчас ее ноги ступают именно по тем самым кирпичам, что таят невидимые следы его ног. Все ему тут было знакомо, вплоть до ржавых шляпок гвоздей, торчащих из досок заборов. К чему только не приглядывался зоркий, все примечающий глаз художника?..
Глаша подошла к белому особняку дома Сокольских, находившемуся рядом с домом Никифораки. Из окон особняка торчали стволы пулеметов, а на подоконниках сидели и лущили семечки парни сорокинского отряда.
— Эй, молодка, чего семенишь мимо? — окликнул Глашу чубатый парень и наполовину высунулся из окна. — У нас до тебя, красотка, интерес имеется. Подойди, лясы поточим…
Глаша поправила алый бант на своей блузке и перешла через дорогу на противоположную сторону улицы.
«Ивлевы, Ивлевы… Русские интеллигенты… — размышляла она. — Они хотят видеть плоды прежде цвета и находят листья безвкусными… Им трудно понять, что все-таки лучше преодолевать колючие шипы на дороге к новому, чем бежать за тенями прошлого».
Глава двенадцатая
Приказ из Москвы о потоплении Черноморского флота, полученный ЦИКом Кубано-Черноморской советской республики, глубоко взволновал Леонида Ивановича. Не зная, чем он продиктован, и не понимая, почему флот должен самоуничтожиться как раз в то время, когда на Батайском фронте идут тяжелые бои с немцами, Леонид Иванович недоуменно разводил руками:
— Выполнить приказ — это значит не только подорвать оборонные силы республики, но и убить всякую веру в возможность дальнейшей борьбы с германскими захватчиками.
Эту мысль он высказал и командующему Кубано-Черноморской армией Автономову.
— Да, товарищ Первоцвет, — согласился с ним тот, — у нас каждая боевая единица на вес золота, и вдруг мы собственными руками должны пустить ко дну целую эскадру. Это, право, не лезет в голову. Срочно отправляйтесь в Москву, к товарищу Ленину, и от имени нашего ЦИКа и ревкома опротестуйте убийственную директиву.
— Но при нынешнем состоянии железнодорожного транспорта до Москвы не добраться и за десять дней. Сами знаете, какой хаос царит на всех путях, станциях… Да и деникинцы всюду рыщут.
— А я выделю бронепоезд, — решил Автономов. — На нем уж как-нибудь пробьетесь. Кстати, и мой политкомиссар Гуменный покатит с вами. Мы надумали просить у Совета Народных Комиссаров денег на содержание армии и военных специалистов, нужных нам в качестве инструкторов…
Ростов был занят немцами, и потому бронепоезду пришлось идти кружным путем — через Царицын.
По настоянию Гуменного в состав бронепоезда был включен классный вагон.
За окнами медленно догорал малиновый закат. Влажный ветер мягко дул в полуоткрытое окно, занося в купе запах и уголь паровозного дыма, который, вырываясь гигантскими клубами, плыл по воздуху, закрывая телеграфные столбы и провода. У самого паровоза черные клубы дыма окрашивались красноватыми отблесками.