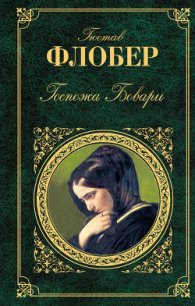Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
И вот я оказался на распутье.
Теперь я освобожусь от наваждения, которое меня два года преследовало… Правда, моя магистерская работа была по международному праву. По военному праву, если быть точным: «О праве частной собственности во время войны». И Ивановскому это известно. Но ему известно и то, что из всех сданных мною экзаменов только по политической экономии и истории римского права у меня ниже «отлично», то есть «хорошо». И что на семинарах по уголовному праву я заслужил самую высокую оценку. Я говорю:
— Игнатий Иакинфович, я решил: если возможно, то я хотел бы работать на кафедре уголовного права.
И думаю: почему бы ему не акцептировать это? Именно там есть вакансия… Я настойчиво смотрю на него, на его старческое приветливое разрумянившееся лицо, потом, чтобы слишком не тревожить старика своим пристальным взглядом, — мимо него, в окно кабинета, на кроны каштанов, где уже появились маленькие, светло-зеленые свечечки, и дальше, туда, где серый порыв дождя скачет по городу и реке, стирает Александровскую колонну и дворец, мосты и реку и вдруг обрушивается на окна кабинета, и они сразу становятся мокрыми. Я чувствую, если старик скажет сейчас: «Хорошо!» (а почему бы ему не сказать?! Он должен! Он должен…) — то я освобожусь от мартенсовского наваждения… Ибо если некий Мартенс будет заниматься в России уголовным правом, в этом не будет ничего особенно удивительного… Но Ивановский поднимает уже становящиеся тяжелыми веки, таращит глаза и вытягивает трубочкой влажные губы:
— Уголовного права? Почему? Нет, этого я не поддерживаю. Конечно, мы, к сожалению, лишились Спассовича. Но туда придет Таганцев. Так что на той кафедре будущее ясно и без вас. Однако, видите ли, я интернационалист. Может быть, благодаря случаю. А все же и по призванию. Всю жизнь я любил свое международное право. А тем, кого я люблю, тем я советую им заниматься. Если они хоть немного для этого подходят. Вы же подходите идеально. Вы для этого рождены…
— Игнатий Иакинфович, именно в силу своего рождения я не гожусь на международное право…
— Послушайте, Федор Федорович, министром иностранных дел в России вы стать не можете. Это правда. Послом за границей — тоже едва ли. Но эти люди занимаются политикой, а не правом. Я имею в виду серьезную академическую работу. И тот, кто в этом достаточно преуспеет — и кому господь дал такие предпосылки, коими обладаете вы, — тот откроет для себя дипломатические ворота и у нас в стране, из каких бы — простите меня — низов он ни происходил!
Я пытаюсь сделать последнюю попытку:
— Игнатий Иакинфович, но…
— Никакого «но». Выбирайте кафедру международного права. Ибо любым другим выбором вы продемонстрируете такую некомпетентность в отношении самого себя, что я не смог бы нигде вас поддержать. На своей кафедре я поддержу вас всей душой. И даже предскажу заранее — да-а: если вы изберете международное право, то и в России окажется однажды свой Мартенс, а мир получит русского Мартенса.
Он умолкает и смотрит на меня с горячим доброжелательным запалом. Я закрываю глаза и слышу, как порыв дождя стучит в стекла.
— Ну как, Федор Федорович, последуете вы моему желанию и совету?
И я подчинился. И поступил, как он желал и советовал. Ибо понял: если в такую минуту включены такие регистры, то нет мне спасения от моей особой, двойственной судьбы.
Слева за окном все еще тянется Кикепераский сосновый бор, сквозь который мы уже много времени дымим. Однако справа он неожиданно начинает редеть, и — в стеклянную дверь купе и окно в коридоре видно — мы уже на открытом лугу и затем возле низких серых домишек окраины Килинги-Нымме.
За домами мелькает зелень высокой кладбищенской березовой рощи. Как всегда. Подальше — одинокая башня Саардсской кирки. Как всегда. И где-то там, позади серых домов, уже четвертый год чернеет пепелище. Дом кого-то из бунтовщиков. Превращенный усмирителями в пепел. На рождество 1905-го. Один из тысяч домов, которые сожгли в отместку за сотню мыз.
Однако поезд здесь, в поселке, не останавливается. Ибо какое значение имеет в нашей стране гнездо с тысячей жителей, с его сапожниками, мельниками, лавочниками?! Если вольтветиский господин Штрик двенадцать лет назад, когда прокладывали эту дорогу, велел построить станцию не в поселке, а на пять верст восточнее, на своем пастбище?! Там она до сих пор и находится… И до сих пор (за исключением тех недолгих месяцев, страшных, гордых, бог его знает каких месяцев…) и станции, и поезда, и дела стоят в Лифляндии на том же месте, где они стояли и прежде. Или, может быть, все-таки не совсем там. Даже если теперь во многих смыслах еще на худшем месте…
Господин Булачелл, молдавский аферист, когда-то ведь и в Таллине практиковавший господин, самая дорогая и самая грязная собака в нашей адвокатуре, будто бы заявил в Петербурге, что вскоре от премьер-министра должно последовать повсеместное распоряжение судам закрыть все незаконченные дела по обвинениям против «истинно русских людей» и отклонять все поступающие на них новые жалобы. Да. А в Таллине уже третью неделю идет процесс над Таллинским комитетом социал-демократов. В военном суде, разумеется. Почти тридцать обвиняемых. Так что дюжину или две опять отправят к каторжникам и высланным в Сибирь. И все время готовятся новые процессы.
…Боже мой, позавчера, в пятницу вечером, я зашел мимоходом в здание Пярнуского вокзала, забрать свои газеты. Я шел из Зимнего порта, где возился с моторной лодкой. Это я делаю всегда сам. Снобизм и сама эта лодка, и маленький пристмановский двигатель на ней. Куда я в ней ездил? До Сиидиской запруды. Немного по рекам Рейю и Сауга. На просторной посудине дальше там и не пройдешь. Раз или два на Кихну. Ездил показывать приезжим из Петербурга экзотические юбки островитянок. Однако эта лодка с мотором у меня уже пять или шесть лет. Так что керосиновый насос время от времени требует чистки и регулировки. И я не поручаю этого Карлу. Хотя, наверно, он сделал бы более умело. Это, конечно, тоже моя маленькая прихоть, если угодно. В пятницу вечером прихожу на станцию, кладу газеты поверх инструментов в старый портфель, который у меня с собой, и вдруг вижу, что на станции — как бы сказать — какое-то удрученное оживление. Какие-то мужчины с мрачными лицами и бледные, заплаканные женщины выходят от начальника станции в зал ожидания и потом возвращаются из буфета с какими-то завернутыми в бумагу свертками. И когда на мгновение дверь в комнату начальника станции открывается, я заглядываю туда и вздрагиваю: несколько охранников с ружьями и штыками и дюжина мужчин в ручных кандалах. Я сразу, конечно, понял: арестантский этап, ожидающий, пока подадут поезд на Таллии. Время от времени задержанных в Лифляндии бунтовщиков посылают судить по месту преступления, в суды Эстляндии. А чтобы закованные люди меньше бросались в глаза (мы же в этом отношении старательны прямо-таки непропорционально), Куику дано распоряжение держать их до прибытия поезда в комнате начальника станции. Однако близкие узнали об отправлении этапа, подкупили стражу (слава богу, в России все еще можно подкупить стражу), и она из гуманности позволяет заключенным проститься с близкими. Из буфета кое-кто приносит закованному брату, сыну или мужу булку и колбасу.
Выкрашенная серым дверь начальника станции закрыта. Его самого не видно: разумеется, его там, в комнате, нет. На мгновение я приостанавливаюсь в зале ожидания в каком-то странном смущении, которое всегда возникает при виде арестантов, особенно арестантов в оковах, и которое в последние годы нам так часто приходилось испытывать — смущение, состоящее из смешения сочувствия, вопросов, утверждений… Ох, эти несчастные… Но ведь некоторые наверняка виновны… Возможно, убийцы, кто может знать… Слава богу, что это не я… Я от всего этого далек… А, может быть, следовало бы быть ближе… Глупости, я уже не так молод… И я никогда не был столь глуп… А может быть, в свое время все же… Нет, нет, не в такой мере, чтобы за это… А, в сущности, за что же их? Я, во всяком случае, в этом не виноват…