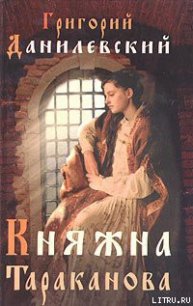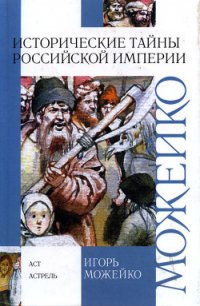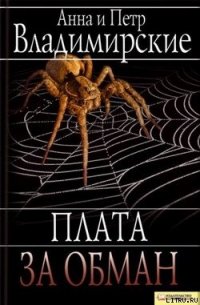Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Нет никакого сомнения, что эти же стремления заставили французский двор, под сурдинкой, помогать и такой испытательнице приключений, какова была Али-Эметэ, набрасывая на помощь свою весьма прозрачный флёр, когда первоначально составленные планы лопнули как мыльные пузыри от побед Румянцева в Турции и Суворова в Польше и когда ни та, ни другая не оказались способными выполнить предназначение, которое этими планами для них определялось. Было видно, что не только каждая отдельно, но и обе вместе они не могут не только потрясти Россию, но сколько-нибудь содействовать уменьшению её могущества. Напротив, было видно ясно, что война России с ними только повышает её военное обаяние и увеличивает её силу территориальными присоединениями, на которые она, несомненно, получает право.
Тут-то и явилось соблазнительное предложение. Русский вельможа, имевший в течение почти 10 лет исключительное влияние на все дела России, находясь в Спа на излечении от небывалой болезни, говорит, что для России страшна только Россия, то есть её неурядица, рознь, существующие во всех отраслях её управления непорядки, что эта неурядица и эти непорядки вызывают массы недовольных, поэтому нужно только имя, которое могло бы сосредоточить на себе эту массу недовольных... А вот получают известия и от другого вельможи, не непосредственно, правда, но получаются несомненно. Этот вельможа в течение почти 30 лет стоял в челе внутреннего управления Россией. Он даёт знать тоже, что недовольные уже сгруппировались и что им нужно только имя, но что имя это должно быть такого рода, чтобы было дорого для всей России, было надеждой её будущего возрождения былой силы, способной её воодушевлению.
Теперь предлагают имя, не менее дорогое для России, хотя до времени не знаемое ею, имя дочери императрицы Елизаветы — государыни, памятной народу по уничтожению ею иностранного влияния, по своей религиозности, по милостивому царствованию, не допускавшему смертной казни и сократившему ужасы пыток. Она была обожаема войском, возведшим её на престол; любима народом, наконец, была дочь Петра Великого. Может ли быть, чтобы народ не отнёсся сочувственно к её дочери? Незнающему можно объяснить, сомневающегося убедить. Но, естественно, не встретить себе сочувствия она не может, тем более противу кого же? Против чужеземки, начавшей своё царствование узурпаторством? Этого положительно «не может быть»!
И вот это-то «не может быть», проводимое во всех политических сферах столь ловкими проводниками, каковы были отцы иезуиты, заставило Людовика XV, не более их разбирающего средства для достижения целей, согласиться с представлением об оказании тайной поддержки Али-Эметэ, точно так же, как желал он поддержать и даже усилить Пугачёва.
В какой степени было сильно это последнее желание у французского двора, можно судить из того, что Густав III, сделав у себя желаемый французским двором переворот на французские деньги и при французской помощи и получив от того возможность возвысить военное значение своего государства, предполагал начать своё абсолютное правление открытием ближайших сердечных соглашений с маркизом Пугачёвым, о чём он особо писал герцогу орлеанскому; а также из того, что поляки барской конфедерации, частью жившие в России в виде военнопленных, частью же из руководимых генералом Дюмурье, беспрерывно прибывали в формируемые Пугачёвым шайки. Разумеется, и поддержка Франции, и сношения с Швецией, а может быть, и совокупность их взаимных действий могли бы развиться до более ощутительных последствий в таком случае, если бы они встретили в Пугачёве не только удалого казака-разбойника, но и человека, способного сколько-нибудь усвоить себе государственные соображения. Но чего не было, того и быть не могло. Екатерина имела полное право смеяться над этим другом короля шведского, безграмотным маркизом Пугачёвым, который, представляя из себя императора Петра III и слыша, что государи сидят на престоле, войдя в церковь первого взятого им села, заявил, что он давно уже на престоле не сидел, и по таком заявлении сел на церковный престол и, приказав открыть царские двери, принимал там доклады и прошения, будто тибетский далай-лама, воображающий, что прошения к нему есть то же, что прошения к божеству.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Али-Эметэ в этом отношении была для них сподручнее. Она, по крайней мере, умела играть принятую ею на себя роль с достоинством и грацией, хотя и знала, что разговаривавшие с ней лица тоже читают только реплику и хорошо знают, что и она не более как искусно играет роль.
Али-Эметэ жила в Венеции под именем графини Пинненберг, одного из дворянских имений Гольштейна, который принадлежал по праву русскому наследнику престола, но оспаривался у него князем лимбургским.
Вот она в великолепном доме французского посольства, который заняла весь со своим штатом, предоставив места камергера и шталмейстера Доманскому и Чарномскому, при гофмаршале бароне Кнорре, заведовавшем её свитой, состоявшей более чем из 60 человек, — говорит с князем Радзивиллом и его сестрой, графиней моравской. О скуке и стеснённом своём положении, вследствие неполучения пенсии и известий от своего персидского дядюшки.
Князь Радзивилл, зная очень хорошо, что этим персидским дядюшкой, производившим ей пенсию в течение последних трёх лет, был он сам и что теперь, по случаю наложенного на его имение запрещения, он нашёлся вынужденным в производстве пенсии остановиться, тем не менее выражал искреннее сожаление о неполучении известий от дядюшки и выражал готовность послать нарочного в Персию, чтобы узнать, что такое вдруг случилось с её дядюшкой, что, после стольких лет внимания, от него нет ни привета, ни вести его очаровательной племяннице.
— Да! — отвечала Али-Эметэ. — Если бы я получила свои русские имения и зацепинские капиталы, я могла бы спокойно ожидать, будет ли дядюшке угодно меня вспомнить; а теперь, выполняя его желания и объявляя свои права, я нахожусь в затруднении...
Отец Антоний, который был прислан вместо отца Бонифация, также сидел тут и тоже знал очень хорошо, что на русские имения и зацепинские капиталы она имеет такие же точно права, как и на наследование Японской империей или Китаем, и что самым заявлением, что она не племянница Анны, а дочь императрицы Елизаветы, Али-Эметэ от них сама же отреклась, — тем не менее счёл себя обязанным сказать, что получение зацепинских имений и капиталов есть только вопрос времени.
Али-Эметэ знала, что он сказал это так, ей в утешение, только для того, чтобы что-нибудь сказать, и что он знает лучше чем кто-нибудь, что она скорей взволнует всю Европу, чем из этих капиталов получит хоть грош, признала, однако ж, нужным продолжать разговор в том же духе и заговорила о своём славном и великом роде великих князей владимирских и московских.
Собеседники находили нужным поддерживать её рассказы о знаменитости её рода, хотя ни до этого, ни после они ничего о князьях владимирских не слыхали.
Но болтовня была только болтовнёй. Между тем средства, данные иезуитами, при роскошной жизни Али-Эметэ, истощились быстро. Князь Радзивилл, живший на счёт своих капиталов и продажей драгоценностей, вывезенных из Вильны вследствие секвестра, наложенного на его имения за ослушание избранному королю Станиславу Понятовскому, которого он не хотел признать, — много помочь ей не мог Ещё менее мог помочь ей князь лимбургский по запутанности своих дел. Впрочем, князь старался отнять от себя последнее, чтобы хоть сколько-нибудь поддержать обожаемую им Калипсо, царицу ночей, как в шутку он иногда называл её.
Отцы иезуиты, смутив её обещаниями и заверениями, о какой-либо особой денежной поддержке даже и не думали. Они говорили: мы выдали вам всю пенсию на полгода, вольно же вам было прожить её в полтора месяца. Притом они заявляли, что они не видят с её стороны энергических действий. Правда, она разослала о себе формальные заявления; но это далеко не всё. Поэтому они обещались достать ей всё, что нужно, но только в Константинополе, по закючении формального договора с султаном.