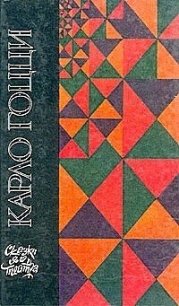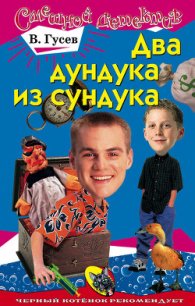Баудолино - Эко Умберто (книги регистрация онлайн бесплатно .TXT) 📗
На следующий день Праксей, увидев Баудолино, сказал, что ему сдается, будто он наговорил накануне негодных и абсурдных вещей, которых на самом деле не думал. Просил прощения, умолял забыть все, что было говорено. Он расстался с ними, повторяя: — Прошу вас, не забудьте же все позабыть.
— Пресвитер то, Пресвитер се, — подытожил Поэт. — А вот Праксей предлагает нам царство.
— Ты сошел с ума, — оборвал его Баудолино, — у нас наша миссия. И мы клялись Фридриху.
— Фридрих умер, — сухо ответил Поэт.
С разрешения евнухов Баудолино часто приходил наведать Диакона. Они стали друзьями. Баудолино рассказывал ему, как разрушали Милан, как строили Александрию, как берут крепостной вал и что надо делать, чтобы поджечь вражескую баллисту или кошку. Под эти рассказы, Баудолино мог бы сказать, у юного Диакона сверкали глаза, хоть его лицо и продолжало оставаться завешенным.
Потом Баудолино расспрашивал Диакона о богословских контроверзах, которые полыхали в той провинции, и у него рождалось чувство, будто Диакон при ответе печально улыбается. — Царство Пресвитера, — отвечал он, — очень старинное, и здесь нашли себе укровище все секты, что в ходе столетий бывали выдворены из христианского мира Запада. — И было ясно, что даже Византия, в той малой степени, в которой он знал что-то о ней, являла для него Далекий Запад. — Пресвитер не желал лишать всех этих беглецов их собственной веры, и проповедование многих из них стало соблазном для местных пород, проживавших в этом царстве. Хотя, в самом деле, зачем обязательно знать, какова Животворящая Троица? Довольно, по мне, чтобы следовали заветам Евангелия, никто не должен попадать в ад за то, что думает, будто Дух Святый исходит от одного Отца. Они ведь добрые, ну ты же видел, и у меня разрывается сердце из-за того, что в один прекрасный день они все должны лечь костьми, образовав заслон против белых гуннов. Так что пока здравствует мой отец, я буду править страной смертников. Хотя, быть может, раньше них приму смерть я.
— Что ты, что ты, государь. По голосу и по самому твоему сану наследника священства, мнится, ты не можешь быть стар. — Диакон качал головой. Тогда Баудолино, чтоб его повеселить, рассказывал свои с друзьями проделки времен парижской жизни. Но тут же чувствовал, что разжигает в сердце Диакона неистовые желания и ярость из-за их неутолимости. При этом Баудолино, конечно, выдавал, кем был и кем он является в самом деле, забыв, что он Волхвоцарь. Но и Диакон теперь уже ничему не удивлялся и даже давал понять, что в эти одиннадцать Волхвоцарей он лично никогда не верил и только разыгрывал роль, навязанную евнухами.
Однажды Баудолино, пред лицом несомненной тоски Диакона, лишенного и самых простых радостей, которые юность дарует всем, попробовал убедить того, что можно пестовать в сердце любовь к недостижимой возлюбленной, и рассказал о былой страсти к некой благородной даме и о писанных к даме письмах. Диакон спрашивал срывающимся голосом. Потом он взвыл, как раненое животное: — Даже это мне заказано, Баудолино, даже воображаемая любовь. Знал бы ты, как я мечтал бы скакать во весь опор перед войском, впивая запах ветра и запах крови. Тысячу раз я предпочел бы погибнуть в бою с именем возлюбленной на устах, нежели оставаться в этом заклете и ждать… чего? Ничего, наверное…
— Но ты, господин, — сказал ему Баудолино, — ты назначен стать начальником сильной империи, ты, да сохранит Господь твоего родителя как можно дольше, выйдешь когда-нибудь из этого склепа и Пндапетцим станет только последней, самой заштатной из твоих провинций.
— Когда-нибудь выйду, когда-нибудь стану… — пробормотал Диакон. — Кто поручится? Знаешь, Баудолино, самое страшное для меня, Бог извини мне грызущее сомнение: что, если царства вовсе нет? Кто мне сказал, что оно существует? Сказали евнухи, когда я был ребенком. К кому возвращаются посланцы, которых они, эти евнухи, шлют к отцу? К ним же, к евнухам, они возвращаются. А уезжали ли действительно? И возвращались ли взаправду? Я знаю все единственно от евнухов. Что, если все, эта провинция, может быть, даже вся вселенная — плод заговора евнухов, которые глумятся надо мной, как над последним нубийцем или исхиаподом? Что, если и белых гуннов не существует? От всех людей требуется крепкая вера, чтоб верить в создателя земли и небес и в самые недоступные таинства нашей святой религии, даже когда они противны рассудку. Но приказ верить в этого неудобопостижимого Бога намного легче выполним, нежели тот, что выпадает мне: веровать исключительно в евнухов.
— Что ты, государь, что ты, друг, — подбадривал его Баудолино. — Правление твоего отца истинно, я слышал о нем не от евнухов, а от людей, которые в него верили. Вера все превращает в явь. Мои земляки поверили в новый город, способный устрашить великого императора, и этот город стал явью, поскольку они в него сильно верили. Царство Пресвитера истинно, потому что я и мои сотоварищи посвятили две трети нашей жизни его отысканию.
— Кто знает, — отозвался Диакон. — Будь даже и так, мне не увидеть того царства.
— Ну хорошо, хватит, — однажды не выдержал Баудолино. — Ты опасаешься, что царства нет, и изводишься ожиданием, когда можно будет его увидеть. Так ты замучишься. По правде говоря, ты никому ничего не должен, ни этим евнухам, ни этому Пресвитеру. Евнухи выбрали тебя, когда ты сосал грудь и сам не мог их выбирать. Тебе по вкусу жизнь под знаком риска, под знаком славы? Так в путь. Бери одного из наших коней. Скачи в Палестину, где доблестные христиане дерутся с маврами. Стань же героем, коли тебе охота. В замках Святой Земли принцессы отдадут жизнь за одну твою улыбку.
— А ты видал мою улыбку? — спросил на это Диакон. Одним движением сорвал фату и обнажилась жуткая гримаса. Разъеденные губы не загораживали прогнивших десен и зубов. Кожа лица наморщилась и местами была полностью слуплена с омерзительного розового мяса. Глаза под гноем еле виделись. Весь лоб являл собою язвы. Свисали длинные волосы, и редкая раздвоенная борода еле скрывала, что оставалось от подбородка. Диакон снял перчатки и показал тощие руки, усеянные темными узлами.
— Проказа, Баудолино. Проказа не милует царей и властителей мира. С двадцатилетнего возраста я прячу секрет от народа. Я попросил евнухов известить отца, что не замещу его. Чтоб торопился вырастить нового местодержателя, и поскорей. Пусть бы сказали, что я скончался, а я бы ушел в один из приютов для мне подобных и там пропал бы без вести. Но евнухи сказали: отцу угодно, чтоб я остался. Я не верю евнухам. Думаю, им нужен слабый Диакон. Может, как я умру, они оставят набальзамированное тело в этой яме и продолжат командовать от имени моего трупа. Может, после смерти Пресвитера кто-нибудь из них займет мое место и никто не сможет оспорить, что это не я, потому что никто не знает мою наружность: в провинции меня видели только когда я сосал грудь. Теперь, Баудолино, ты видишь. Я жду смерти от скуки. Смерть пропитала меня всего. Не быть мне наездником, не быть любовником. Вот и ты сейчас не замечая ступил на три шага назад. Как ты видел, и Праксей, разговаривая со мной, держится на пяти шагах. Единственные, кто может находиться тут рядом, это два закутанных евнуха, они молоды, как и я, и поражены тою же болезнью. Только они трогают утварь, к которой я прикасался. Им нечего бояться. Теперь я опять закроюсь, может быть, тогда ты вернешь мне сострадание, если не дружбу.
— Я искал слова сочувствия, сударь Никита, но не находил. Потом я решил сказать, что из всех кавалеров, штурмовавших крепости, он самый геройский. Он, витяжествовавший в одиночестве и молчании. Он поблагодарил и на тот вечер попросил его оставить. Но я уже привязался к этому злополучнику и приходил ежедневно. Рассказывал о давно прочитанных книгах, о спорах, слышанных при дворе, описывал виденные страны: и Регенсбург, и Париж, и Венецию, и Византию, Иконий, Армению… и народы, обитавшие на землях, где мы прошли. Он обречен был умереть и не увидать ничего на свете, кроме пндапетцимских закоулков. Ну, я и старался ввести его в жизнь через рассказы. Может, я что досочинил, набредил о городах, которые не видел, битвах, в которых не сражался, принцессах, которыми не овладевал… Я пел ему о дивовищах тех уделов, где умирает солнце. Дарил ему наслаждение закатом на Пропонтиде, отблесками смарагда в венецианской лагуне, подарил долину в Гибернии, где семь белых церквей пасутся на берегу безмолвного озера с отарой таких же белых, как они, овец. Я рассказал, что Альпы Пиренеи покрыты мягким светлым веществом и летом оно преобразуется в ревущие потоки и расточается реками и ручейками по склонам, под пышной зеленью каштанов. Что есть соляные пустыни, они расстилаются неподалеку от берегов Апулии; я довел его до дрожи, описывая море, которое я не бороздил никогда, где над поверхностью воды танцуют рыбы крупнотой с теленка, и до того благодушные, что некоторым удается кататься на них верхом. Я рассказал о странствии Святого Брандана к Счастливым островам и о том как он высадился вместо острова на спину кита, кит же рыба здоровее самой здоровенной сопки и способна проглотить большой целиком корабль; но тут понадобилось разъяснить ему, каковы корабли, деревянные рыбы с белоснежными крыльями, и я перечислил ему поразительных животных моего края, каковы: олень, он носит два матерых рога крестообразного рисунка; аист, он перелетает из одной земли в другую и заботится о своих престарелых родителях, носит их по небу на закорках; божья коровка, напоминающая видом небольшой гриб, красная козява, испещренная пятнышками млечной белизны; ящерица, наподобие крокодила, но маленькая и способна пролезать под дверь; зегзица, подкидывающая яйца в гнезда прочим видам птиц; совушка, у которой круглые очи по ночам горят как светильники, да она и питается лампадным маслом по церквам; еж, спина у него утыкана иглами и он отсасывает молоко из вымени у коров; устрица, живая шкатулка, время от времени родящая сокровище, хотя и мертвое, но неоценимого достоинства; соловей, бодрствующий ночью для пения и сиротствующий без розы; лангуст в пламенеющей броне, что пятится, желая уйти от тех, кто лаком до его мяса; угорь, страшительный водяной змей, отменного жирного вкуса; чайка, парящая над водами подобно Господню ангелу и испускающая демонские крики; дрозд, черный желтоносый предатель среди птиц, умеющий говорить и выдающий тайны своего хозяина; лебедь, горделиво бороздящий озерные воды и поющий свою лучшую песнь в минуту смерти; хищная изящная ласка, перегибистая, как девушка; сокол, когтящий с небес добычу и несущий вскормившему его рыцарю. Я живописал яркие груды не виденных ни им, ни даже мною драгоценных камней: пурпурные и млечные разводы сердолика, багровые и белые прожилки египетских самоцветов, непорочность лунного камня адуляра, прозрачность хрусталя, сияние алмаза, постарался передать блеск золота, мягкого металла, который поддается плющению на неосязаемые листы, передал брызг и треск раскаленного лезвия, когда его суют в воду для закалки, и какие изукрашенные поставцы можно видеть в ризницах больших аббатств… как высоки и остроглавы колокольни наших церквей, как высоки и стройны колонны константинопольского Ипподрома; какие книги читают иудеи, листы их испещрены значками наподобие насекомых, что за звуки произносят они читая; как однажды христианский царь получил в подарок от халифа петуха, и петух тот был из железа, и он пел на каждом восходе солнца; как устроен тот шар, что вращается и исторгает пар; до чего жгутся зеркала Архимеда; до чего страшно ночью видеть ветряную мельницу; а потом я рассказал ему о Братине, и о рыцарях, которые до сих пор ищут ее по всей Бретани, и о том, что мы возвратим эту Братину его отцу, как только нам удастся изловить коварного Зосиму. Видя, как он околдовывается этими великолепиями, в то же время мучаясь от их недостижимости, я подумал, что будет хорошо, дабы он уверился, что его мука не крайняя, рассказать ему об истязаниях Андроника, с подробностями, еще и превосходящими то, что над ним проделывали; о бойне в Креме; о пленных, которым отрубали руку, отрезали ухо, вырывали нос; я вызвал в памяти самые страшные недуги, в сравнении с которыми проказа — наименьшее зло; сказал, что есть на свете гангрена и золотуха и костоеда и пляска святого Витта и Антонов огонь; кого-то жалит тарантул, кого-то одолевает чесотка, заставляя соскабливать по чешуйкам с себя всю кожу; кого-то язвит чумная кобра; у святой Агаты отрезали груди; святой Люции выкололи глаза; святого Севастиана пронизали стрелами; первомученику Стефану раздробили череп камнями; святого Лаврентия жарили на решетке, на медленном огне; я выдумал еще своих святых и к ним новые терзания: святого Урсикина, которого колом впронизь проткнули от зада до зубов; святого Сарапиона, освежеванного; святого Морпвестия, привязанного за все члены к бешеным коням и ими разорванного; святого Драконтия, принужденного пить кипящую смолу… Я думал, в сравнении с пытками он заново увидит свою участь. Но и боялся перегнуть палку, так что вскоре опять занялся радостями мира, мысль о коих могла возвеселить заключенного: вспомнил о прелести парижских девчонок, о ленивом пригожестве венецианских куртизанок, о несравнимом ни с чем оттенке кожи императрицы, о детском смехе Коландрины, о взоре удаленной принцессы. Он возбуждался, требовал продолжения рассказов, просил обрисовать волосы Мелизенды, триполитанской графини, и очертить губы тех нежных девушек, которые кружили голову рыцарям Броселиандского леса хуже всякой Братины, и пуще возбуждался; да простит меня Господь, думаю, что не единожды он вздымался и ощущал радость семяизвержения. Я перешел к томительным преизобилующим в мире ароматам, и поскольку не имел их с собой, постарался вспомнить и назвать и те, с которыми был знаком, и те, которые, не обонявши, знал только по имени, но полагал, что имя может пьянить сильнее запаха: их имена были бадьян, шафран, имбирь и мускатный орех, анис, кориандр, кардамон, барбарис, ажгон, куркума, сочевица, мелисса (змееголовник), рута, римская полынь, любисток, асафетида, гарциния, гаргант, канупер, иссоп; нард, алой и киннамон; купырь, малагетта (райское зерно), дягиль, донник, душица, чистец, он же гравилат, фенугрек, драконоголовник, чабер, тимьян, можжевельник, мята, горчица, анис, кориандр, ладан, сандал, лавр, майоран, анис, цитронелла и римский тмин. Диакон слушал на грани обморока и то и дело трогал лицо, как будто его бедный нос не мог вытерпеть благоухания, и плача спрашивал, какую же пищу давали ему всю жизнь распроклятые евнухи, под предлогом его хвори: козье молоко и размоченный в бурке хлеб, якобы целебный от проказы, отчего все дни он пребывал в тупом похмелье, постоянно спал, а во рту вечный вкус, все один и тот же вкус…