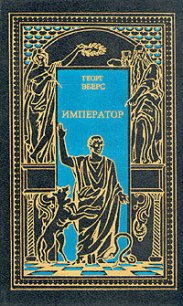Тернистым путем [Каракалла] - Эберс Георг Мориц (книги полностью бесплатно TXT) 📗
Как могла она хотя бы на одну минуту сомневаться относительно своих прямых обязанностей?
Если бы она послушалась философа и подчинилась желаниям цезаря, то Диодор был бы вправе осудить и проклясть ее. А разве она могла признать себя вполне безупречною?
И в ней тотчас же заговорил голос, отрицавший это; бывали минуты, когда сострадание так сильно охватывало ее, что она относилась к больному цезарю с большею, чем следовало, теплотою. Да, она не могла отрицать этого; она могла бы описать жениху, не краснея, каково было ее душевное состояние, когда она сама не могла понять, какая тайная сила влекла ее к императору.
И вот в ней быстро и сильно выросло убеждение, что ей не только следует оградить жениха от нового горя, но и исправить относительно его свою прежнюю вину. Мысль принести в жертву свою любовь, чтобы, по всей вероятности, напрасно заступаться за других, чтобы облегчить их участь, а самой вследствие принесенной для посторонних жертвы сделаться несчастною и причинить горе безгранично любимому жениху, казалась ей теперь дикою, позорною, непостижимою, и, глубоко вздохнув, она вспомнила об обещании, данном ей Андреасу. Также и ему, всегда направлявшему ее к добру, она могла теперь снова смотреть в его серьезное и честное лицо.
Так, именно так следовало действовать, так тому и быть!
Но после первых быстрых шагов, которые она сделала навстречу Филострату, она еще раз остановилась в раздумье. Слова об исполнившемся времени снова пришли ей в голову вместе с воспоминанием о христианине, и она сказала себе, что для нее настала та минута решения, которая наступает для каждого человека. От ответа, который она даст философу, зависит счастье и горе ее будущности. Ужас охватил ее при этой мысли, но только на одну минуту. Затем она выпрямилась и, приближаясь к другу, с радостью почувствовала, что ее выбор хорош и что она не задумается пойти из-за него даже на смерть.
По-видимому, делая вид, что совершенно поглощен разговором с фракийцем, Филострат не переставал исподтишка наблюдать за девушкой, и от этого знатока человеческого сердца не ускользнуло, на что она решилась.
Будучи твердо убежден, что склонил ее в пользу Каракаллы, он предоставил ее самой себе. Ему казалось несомненным, что семя, брошенное им в ее душу, непременно взойдет, что она яснее уразумеет, чем она сама насладится в качестве императрицы и что ей возможно будет отклонить от других. Ведь она была умна и вдумчива и к тому же – он больше всего рассчитывал на это – все-таки была женщина. Но именно потому-то ему и не следовало удивляться, что его ожидание не осуществилось. Противоположное было бы ему приятнее ради Каракаллы и его окружающих, но он был хороший человек и слишком сильно полюбил Мелиссу, чтобы ему не была тяжела мысль видеть ее прикованною к необузданному молодому безумцу.
Еще прежде чем она успела окликнуть его, он распрощался с фракийцем. Затем, подводя ее снова к дивану, он шепнул:
– Вот и еще пришлось приобрести один лишний опыт. На будущее время, когда мне придется предоставить женщине остановиться на каком-нибудь решении, я уже с самого начала стану предполагать, что она решится именно на противоположное тому, чего я ожидал бы в качестве философа и логически мыслящего человека. Ты настаиваешь на том, чтобы сохранить верность твоему жениху и вонзить в грудь кинжал самому могущественнейшему из всех претендентов – он ведь после смерти сделается богом; твое бегство произведет на него впечатление удара.
Тут Мелисса весело кивнула ему головою и возразила:
– Тупое оружие, которым я владею, никак уж не будет стоить жизни цезарю, даже если бы он и был будущий бессмертный.
– Вряд ли, – произнес Филострат, – но то, что ты устроишь ему, побудит его обратить против других свое собственное острое оружие. Каракалла – мужчина, и относительно его мои предположения до сих пор обыкновенно оправдывались. Как твердо я верю в них, ты можешь видеть из того, что я уже раньше воспользовался письмом матери императора, привезенным ее посланными, чтобы распроститься с ним. Я сказал самому себе, что если Мелисса исполнит желание императора, то ей не нужно никакого другого союзника, кроме малютки Эроса; если же она обратится в бегство, то беда тогда тем, которые будут находиться вблизи разгневанного повелителя, а вдесятеро хуже будет мне, который привел к нему беглянку. Завтра утром, прежде чем Каракалла поднимется со своего ложа, я уеду назад к Юлии вместе с ее посланцами; место на корабле…
– О господин, – сконфуженно прервала его Мелисса, – если и ты, мой добрый покровитель, покидаешь меня, то от кого могу я ожидать помощи?
– А разве ты нуждаешься в ней, если думаешь осуществить свое намерение? – спросил философ. – После, то есть в течение сегодняшнего дня, я, может быть, еще буду нужен тебе, и я еще раз повторяю, держи себя относительно Каракаллы так, чтобы даже и его недоверчивая душа не могла догадаться, что у тебя на уме. Сегодня ты найдешь меня готовым оказать тебе помощь. Но слышишь?.. Цезарь снова бушует. Так именно он отпускает посланников, которым хочет внушить, что их условия для него неудобны. И еще вот что: когда у нас появляется седина, то сердцу бывает вдвое радостнее видеть, что прекрасная девушка откровенно сожалеет о нашем расставании. Я всегда был другом твоего прекрасного пола, и даже до сих пор Эрос иногда оказывает мне свою милость. Что же касается тебя, то чем ты прелестнее, тем сильнее приходится сожалеть, что я не могу быть для тебя ничем иным, как только старым, дружески расположенным руководителем. Но сперва сострадание не допускало любовь до выражения чувства словами, а затем давнишний опыт, учащий, что можно покорить каждое женское сердце, за исключением того, которое уже принадлежит другому.
Престарелый друг красивых женщин проговорил эти слова таким любезным, полным сожаления тоном, что Мелисса с теплым участием подняла на него свои ясные большие глаза и, шутя, ответила:
– Если бы Эрос указал дорогу к Мелиссе Филострату раньше, чем Диодору, то, может быть, Филострат и занял бы в ее сердце то место, которое теперь принадлежит сыну Полибия и будет принадлежать всегда, вопреки самому цезарю.
XXIV
Дверь таблиниума распахнулась, и из нее вышло парфянское посольство – семь видных мужчин в своем великолепном национальном наряде в сопровождении переводчика и нескольких писцов.
Мелисса заметила, что один из них, молодой воин с белокурою бородой, которая обрамляла великолепные черты лица героя, и с тиарой на голове, из-под которой рассыпались пышные курчавые волосы, охватил эфес меча судорожным движением руки, и его сосед, задумчивый старик, успокаивал его.
Едва только успели они выйти из приемной, как старый Адвент позвал ожидавших к цезарю.
Каракалла сидел на возвышенном троне из золота и слоновой кости с пурпурными подушками. Как и вчера, он был великолепно одет и его голову украшал лавровый венок. Лев, лежавший на цепи около трона, пошевельнулся, увидев входящих, а Каракалла воскликнул, обращаясь к Мелиссе:
– Ты так долго не приходила ко мне, что мой «Персидский меч» уже не узнает тебя. Если бы мне не доставляло такого наслаждения показать тебе, как ты мне дорога, то я мог бы рассердиться на тебя, застенчивая беглянка!
Когда Мелисса почтительно приветствовала его, он с восторгом поглядел на ее вспыхнувшее лицо и проговорил, обращаясь наполовину к ней, наполовину к Филострату:
– Как она краснеет! Ей стыдно, что в эту ночь, когда я не мог добиться сна и меня мучило невообразимое беспокойство, она не последовала моему призыву, хотя очень хорошо знает, что единственное лекарство для ее мучимого бессонницей друга – ее прекрасная маленькая ручка. Молчи, молчи! Главный жрец сказал мне, что ты не спала под одной крышею со мной. Но именно это и дало моим желаниям настоящее направление. Дитя, дитя!.. Посмотри-ка, Филострат, красная роза превратилась в белую. А эта боязливая застенчивость! Она не оскорбляет меня, нет, она радует меня… Подай-ка вон те цветы, Филострат! Возьми их, Мелисса. Они настолько украсят тебя, насколько ты послужишь для них украшением.