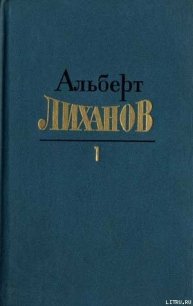Голгофа - Лиханов Альберт Анатольевич (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
Теперь же, в безысходный свой час, пришла ему в голову мысль, что худшее, то есть смерть, не всегда худшее в сравнении и с жизнью.
Если жизнь вот так, как у него, повернет.
С кладбища Пряхин пришел в милицию.
Старик капитан усадил его напротив и, не выспрашивая фамилии, имени, года рождения, не исполняя тягостного обряда, который предшествует допросу, стал говорить с Алексеем про ту ночь, про ту тяжелую смену, и как-то так незаметно вышло, что скоро они говорили друг другу «ты», точно старые знакомые, и все-все, кроме разве Зинаиды, знал старик капитан про Алексея. Потом он велел Пряхину подождать, придвинул к себе бумагу, заскрипел, разбрызгивая чернила пером, и дал Алексею подписаться.
– Вишь, какая пачка про тебя, – сказал он, придвигая папку бумаг и вкладывая в нее еще один листочек.
Капитан вздохнул.
– Окончательный вывод, конечно, не за мной одним, – сказал он, – но и свидетели и результаты замеров показывают, что дело будет закрыто. – И добавил, помолчав: – Не казнись, солдат.
– Как же так? – проговорил Алексей.
– Да и что толку-то, – будто не услышал его капитан. – Тюрьмой горю не поможешь…
Дома Алексей застал Зинаиду, и это его теперь не удивило. Удивила тетя Груня. Она смотрела на Пряхина с жалкой полуулыбкой, ходила чуть ли не на цыпочках, заставила сесть за стол и вынула из-под фартука бутылку самогона.
Пряхин выпил стакан. Он не ел сутки или даже больше и должен был бы тотчас уснуть от такого количества спиртного, но даже не запьянел. На столе дымилась рассыпчатая картошка, стояла мисочка аппетитных огурцов – он поглощал еду, не замечая ее вкуса и запаха, а тетя Груня сказала:
– Прости меня, старую.
Алексей ничего не ответил, посмотрел, не понимая, и она пояснила:
– Прости язык мой…
Вот почему ходила она с виноватой полуулыбкой, в своем доме на цыпочках, заглядывала ему в лицо. Ах, добрая душа тетя Груня! Отправила на кладбище, сказала правду – разве это она виноватая, что правда у Алексея такая вышла, – да сама же и застыдилась, винить себя принялась. Ах, тетя Груня!
Он выпил еще, но самогон не принес облегчения. Вздохнул, отложил вилку. Взялся руками за голову.
Ну хорошо – «не казнись»! А что теперь? Дальше как?
Тетя Груня, будто и впрямь волшебница какая, мысли угадывающая, тотчас ответила:
– Уехать вам надо.
Пряхин строго оглядел тетю Груню – «уехать»? Переметнул взгляд на Зинаиду – «вам»? Что-то не очень словечки-то тети Грунины. Чужие какие-то словечки-то получаются.
Старуха всплеснула руками, уловив Алексеев взгляд, затараторила, заприговаривала, заутешала:
– Ой, да конешно, чего это я, старая! Конешно, рассказала мне Зинушка про случайность эту великую вашу, про всю вашу жизнь, правда-ка, погляди, хлобыстнуло ее как, наказало, да и тебя, горемышного, Алешенька; это судьба вас свела, судьба порушила, она и свести старается, болести ваши залечить, а што тебе тутока делать-то теперь, только измаесся, на улицу выйдешь – вспомнишь, пойдешь – и опять вспомнишь, изведешься весь, истаешь, как свечечка, видно, уж богу угодно так, беритесь-ка с Зинушкой за руки, простите прошлодавнее, забудьте тяжелое, возвертайтесь в Москву дальше жить…
Пряхин ухмыльнулся. Спросил устало у Зинаиды:
– Твои труды?
Что-то знакомое, то, давнее, мелькнуло в Зинаиде. Как-то глаза испуганно вскинула, округлила их. Но голосом ответила чужим, сиплым, так и неузнанным:
– Ох, Алеша, повенчаны мы, понимаешь, повенчаны друг с другом несчастьями нашими.
Повенчаны! Сказала! Каждый человек только со своей бедой повенчан. И одному ему с ней расквитываться. Когда счастье, иное дело. Счастьем с другим человеком поделиться всенепременно надо. А бедой делиться грех. Беда на одного. Пришла – расхлебывай, а другому ложки не подавай: горькое это хлебово. Так что ему за свое надо расплачиваться. Зинаида ему и без этой тяжести, без этого груза безмерного не нужна была, не требовалась, а с ним и подавно.
Да и то! Согласись он с ней, с ее словами, что же получится? Без беды своей Зинаиду отталкивал, а беда пришла, и принял… Невелика удаль, небольшой для мужика почет.
Нет и нет, нет и нет!
Досиживали застолье молча. Лицо Алексея посмурнело, посуровело. Морщины заострились, черными штрихами по лицу расползлись. Молчал мужчина, молчали и женщины.
Потом Зинаида засобиралась. Так бы и ушла, кабы не тетя Груня. Принудила:
– Проводи!
Вышли на улицу, Алексей воздуха хлебнул, закашлялся: все крепче и крепче мороз. Горло обжигает, ознобом бьет.
Должен бы вроде мороз Алексея протрезвить, голову очистить, но все как-то наоборот теперь шло. Вроде глотнул Пряхин не свежего воздуха, а еще самогону. Повело его, зашатало. Голова кругом идет, как в тот миг, когда небо перед кабинкой вбок двинулось. Алексей сжал кулаки, словно держит рулевое колесо и от этих рук только зависит, остановится ли машина. Но нет, ведет ее боком – прямо на тележку, покрашенную для гигиены в белый цвет, – и разлетаются, сыплются во все стороны буханки черного хлеба.
Идет Алексей, и то его вправо заносит, то влево.
– Господи, – шепчет зло Зинаида, – что же творится-то! – А потом другим, ласковым голосом: – Куда ж я тебя такого пущу!
Видит Алексей комнатку-пенал – когда-то как будто был уже здесь! – железную койку, узкую, на одного, понимает, куда явился, хочет назад повернуть, но словно в пропасть падает…
Пропасть глубокая, темная до слепоты, но летит он одно мгновение в какую-то жару, в огненное жерло, и все в нем вскипает…
Алексей вскакивает. Он спал прямо в шинели на той узкой кровати – ему жарко, нечем дышать и пить хочется, будто он тысячу лет не пил.
– Что? Что? – шепчет он со сна и при свете керосиновой лампы видит, как на полу, укрывшись пальтишком, лежит Зинаида.
Она повернулась к нему, глаза ясные – не спала, что ли? – сказала:
– Спаси!
Он не понял. Подумал – ослышался.
– Спаси нас, – повторила Зинаида внятно, – меня и себя. Нет у нас другой дороги, кроме Москвы.
Он встал, пригладил волосы. Опять этот разговор. Взглянул на ходики. Пора на работу. Натянул сапоги. Застегнул крючки на шинели.
Зинаида была тоже готова – лежала одетая.
По улице шли молча, и, пока шли, Алексей не думал о работе. В голову это не приходило. Просто он двигался туда, куда следовало двигаться утром, вот и все.
Только там, в конторке Сахно, вернулась к нему его правда. Чернобровая начальница встала из-за стола, пошла ему навстречу, старательно улыбаясь, и вот эта старательность ее улыбки и растерянные взгляды возчиц, притихших враз, вернули ему все его имущество.
– Вот твои права, Пряхин, машина на месте, разжигай топку.
Алексей внимательно поглядел на начальницу. Потом повернулся и медленно вышел. Что-то он забыл как будто. Что-то не довел до конца. Что-то недоделал.
Машина была разогрета: то ли работала ночную смену, то ли кто-то уже растопил газогенераторную установку.
Все еще медля, собираясь с мыслями, вспоминая, что он забыл, Алексей открыл дверцу и медленно сел за руль.
Вспомнил! Даже не вспомнил – понял. Он взялся руками за баранку и крепко сжал ее. Хрустнули пальцы. Как тогда, там на утренней улице, вырвался из него стон – протяжный, глухой, безнадежный.
Нет, не мог он больше сидеть за рулем, не мог крутить баранку. Навеки не мог!
Он вздрогнул – дверка открылась. Внизу стояла Сахно.
– Может, ты не понял, Пряхин? – спросила она. – Дело закрыто, звонили из милиции.
– Не могу! – прохрипел Алексей. – Понимаешь, ехать не могу!
Он выбрался из кабины. Сахно стояла в пальто, только накинутом на плечи, вздрагивала от холода и молчала. Она должна сказать ему что-нибудь. Обязана. Но она молчала.
– Хорошо, – проговорила наконец. – Иди в отдел кадров. Уволиться трудно, ты знаешь. Даже невозможно. Может, тебя на другое какое дело поставят?
Алексей выполз из кабины, потоптался, хотел что-то возразить, попал взглядом на полуторку и осекся. За рулем он не может. И не сможет никогда. Значит, она права, эта чернобровая хохлушка. Надо идти в отдел кадров.