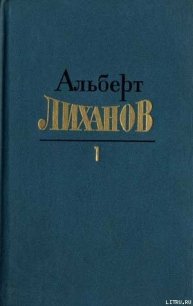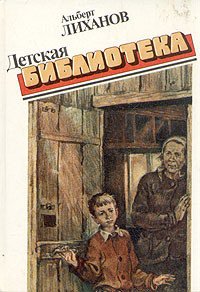Паводок - Лиханов Альберт Анатольевич (читать книгу онлайн бесплатно без TXT) 📗
И хлопнул дверью.
Который-то из них бежал потом по коридору, хватал за рукав, приговаривал: «Погодь, дядька, ну, бывает, ну, сдуру», но он рукав выхватил, сбывалась его опаска, сторонились его люди, – и ушел в дождливую непогоду, неизвестно куда и к кому.
Ночевал на вокзале, доставлялся розовощеким милиционером в отделение, на проверку подозрительности, но другим, пожилым, был отпущен с советом побыстрее вернуться домой.
Эх, домой, да ежели бы мог он вернуться домой, как бы побежал к кассе за билетом на выданные при освобождении небольшие рубли, как бы бежал потом к своему дому, в дальнем краю улицы маленького городка!
Но не мог, не мог, никак не мог Николай Симонов домой вернуться!
С Кланькой жизнь у них шла неровная, трясучая, – ровно ехали на худой телеге по колдобистой дороге, – поздно он женился, в годах уж, так вышло, а Кланька молода еще была, не наигралась, молодых мужиков глазами мимо себя не пропускала. Когда Шурик родился, утихла вроде, но сын подрос, опять за свое: ты не такой да не эдакий, другие, мол, при галстуках и книжки читают, про кино судят, а от тебя слова ласкового не дождешься. Так-то оно так, не мастак Николай был на рассуждения культурные и на прочие такие дела, шофером, считал, родился, шофером и помрет, главное бы – машину беречь да в аварию не попасть.
В то утро с Кланькой схватились, – опять она свои требования к нему, – весь день ездил, зубы сжав, руки тряслись от обиды, от несправедливости ее злой, бабьей. Под конец смены к гастроному подъехал, взял бутылку, чтоб, машину поставив, распить, забыться, и еще бутылку пива заодно, приехал в гараж, ободрал пивную пробку о дверцу, не вылезая из кабины, выпил, вынул ключи, собрался выйти, а тут диспетчер Семина. Так и так, мол, Николай, выручать базу надо, срочный груз со станции вывезти требуется, заказчик рвет и мечет, потому как за простой штраф берут.
Облокотился он тогда, помнится, о дверцу, подумал, подумал и согласился, забыв о пиве. Про Кланьку все соображал, к чему, считал, домой торопиться, если ты там постылый, ненужный, чужой.
Завел машину, выехал, а у самой станции выскочил под колесо ребятенок, вихрастый такой, белобрысый, на Шурика смахивал. Рульнул тогда Николай резко, но не рассчитал, улица узка была, наехал на человека. Пожилой был мужчина, в парусиновых штанах, с потрепанным портфельчиком, много лет, видать, носил.
Николай ручной тормоз выжал, на руль голову склонил и ничего больше не видел. Как «скорая» мужчину того увезла, как толпа собралась, как милиция приехала. Мальчонка сгинул, словно в тартарары провалился, ладно еще нашлись двое прохожих, дали показания, что рулил он для спасения ребенка, а то бы еще хуже было.
Да уж куда хуже, мужчина с портфельчиком в больнице помер, – портфельчик этот и парусиновые неновые штаны до сих пор ему видятся, – а милиция признала, что шофер был выпивши, – провели обследование и бутылку под сиденьем нашли.
Про суд Николай вспомнить ничего толком не мог, понял только, что помогли ему те двое прохожих, да еще хорошо помнил Кланьку: она, сидя в зале, ревела как корова и казала ему кулак.
Но и это мог утишить Николай Симонов, мог спрятать, забыть, – то же, что случилось дальше, забывать было бы позором.
В заключении работал как дьявол, пять лет ему скостили до трех, а то, что Кланька наделала, скостить никто не мог.
Сперва он писал ей краткие, кургузые, нескладные письма, и она отвечала – костерила его, корила, что подвел, оставил одну, – но отвечала. Потом письма ее стали приходить реже, а затем, как раз к Новому году, в подарочек – ничего себе, – пришло враз два конверта: одно от нее, обыкновенное, как всегда, второе от каких-то добрых людей, неподписанное, и в этом втором сообщалось сердечно, что Кланька – потаскуха, связалась с мастером такого-то завода, моложе даже ее, а у него жена и дети.
Николай поверил письму этому, поверил сразу, без сомнений и скидок на то, что оно неподписанное, и затрясся плечами – первый раз заплакал во взрослом возрасте.
Мужики, жившие с ним, – а разный, надо сказать, был народец, – умолкли, подставили стакан денатурата, добытый каким-то хитрым образом, но пить Николай не стал, потому как понимал – такое не запьешь, не успокоишь.
Кланька продолжала писать, он складывал ее письма в мешок, но она настигала своими письмами, видно поняв, что он все знает, настигала – через милицию, что ли? – и здесь, в тайге, в партии, куда он устроился, уйдя от тех парней из общежития.
Тут, в группе, никто не досаждал ему с разговорами, никто не боялся его, бывшего заключенного, ребята видели в нем другое – выносливость, старание, безотказность, и он среди них отошел, отогрелся.
Лежа у костра, успокоив работой и плотной едой утреннюю тяжесть, Николай думал о том, что теперь уже не боится людей, не боится, как посмотрят они на него, что спросят. В конце концов, Кланька еще не пуп земли, не последняя инстанция, есть вон и Нюрка-буфетчица, здешняя баба, вдова.
И только мысль о Шурике, белобрысом Александре Николаевиче, саднила душу.
Взглядывая в костер, в кровавое его пламя, Симонов думал, что все не просто, что Нюрка – это так, заблуждение, и что Шурик – вот в ком его самый главный смысл жизни.
– Какова обычная система связи с группами, которые находятся в поле?
– Дважды в сутки, как правило, рано утром и вечером. Днем группы работают.
– А в случае ЧП?
– Есть аварийная радиоволна, которую наша радиостанция прослушивает постоянно, в конце каждого часа.
– Я проверял. И простые и аварийные радиограммы центральная радиостанция принимала четко, исправно. Исправно, то есть вовремя, они передавались и по инстанции. Но я хотел бы поговорить о системе рассмотрения радиограмм.
– Пожалуйста.
– Начальник радиостанции, начальники партий показывают, что очень часто радиограммы групп, адресованные вам как руководителю отряда, валялись на вашем столе неделями. Что пренебрежение к документам связи – для вас норма, обычное дело.
– Но в этом случае все было не так.
– Разберемся, как было в этом случае…
24 мая. 22 часа 15 минут
Семен Петрущенко
– Вечерний сеанс, – напомнил он Славке Гусеву, надев наушники и подкручивая настройку.
Слава встрепенулся, обтер ладонью щетинистый, колкий подбородок, велел привычно:
– Передавай!
Семка перекинулся с радистом отряда обычными приветствиями, поглядел на Гусева.
– Давай! – велел тот. – Работы идут нормально. Закончим объект двадцать пятого вечером – двадцать шестого утром. Последующую связь уточним. Сообщите Цветковой, надоело просить у нее лодку. Ветер теплый, идет резкая потайка, – и рубанул твердой, как лопата, ладонью, – Гусев.
Семка передал радиограмму, попрощался с отрядом, снял наушники.
– А ветер-то правда теплый! – сказал он удивленно. – Я и не заметил.
– Во дает! – засмеялся Гусев. – По брюхо искупался, а что весна, так и не заметил.
– И правда, братцы, – виновато ответил Семка. – Совсем мы тут зазимовались. Дома-то май, все, поди-ка, цветет. Управление наше на пляж после работы ездит.
– Греби шире! – откликнулся дядя Коля Симонов. – Не-е, ныне весна запоздалая.
– Да она в здешних местах всегда такая, – засмеялся Слава. – Наверху-то река уже давно ото льда освободилась, а тут и не думала.
– А я люблю половодье, мужики, – оторвался от бумаги Валька Орелик. – Едешь на лодке, гребешь потихоньку, глядишь, а лес в речку зашел. Ольха цветет, в воде отражается. И вода черная, вроде неподвижная. Заглянешь в нее – трава, как длинные волосы, шевелится.
– Хе-хе, – оживился дядя Коля Симонов. – Ты у нас, Валька, прямо этот, как его, рилик.
– Кто, кто? – захохотал Семка. – Рилик! Ну, даешь, дядя Коля!