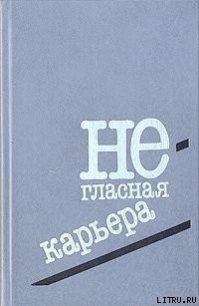Венгерский набоб - Йокаи Мор (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
И Рудольф сорвал ирис, росший у дорожки.
– Смотрите, вот три счастливые пары. Каждая – тесный семейный союз: муж с женой рядышком, друг подле друга; вместе распускаются, вместе увядают. Неверных здесь нет; все – счастливые влюбленные.
Он бросил ирис и сорвал цветок амаранта.
– А эти цветы – аристократы. Муж устроился наверху, во втором этаже, жена – в первом: барская жизнь. Однако этот вот матово-бархатистый отлив указывает, что оба счастливы.
Рудольф растер цветок между пальцами. Кучка мелких черных семян высыпалась ему на ладонь.
– Как черные бриллианты, – сказал он.
– Бриллианты, – шепотом повторила Фанни, невольным движением подставляя руку, куда юноша их и пересыпал.
Жаль выбрасывать: они ей теперь дороже алмазов обеих Индий. [267]
Рудольф отшвырнул амарант.
Фанни взглядом проводила цветок, будто замечая место, куда он упал.
– А теперь на эти два явора взгляните. Какие великолепные, высокие деревья! У одного листва словно посветлее, это женский экземпляр, потемнее же – мужской. Первое делают светлее вот эти кисти семян, которыми оно покрыто. Тоже счастливая пара; а поглядите-ка на тот одинокий явор, подальше. Совсем пожелтел, бедняга. Не нашел себе спутника жизни. Бессердечный какой-то садовник посадил его рядом с орехом, а тот ему не пара, вот и желтеет, чахнет; этакая жалость.
Ах, знал бы он, как терзает шутливыми своими историями бедную женщину.
– Так что и растения бывают несчастливы в любви… Но что с вами, боже мой, как вы побледнели!
– Ничего, сударь, так, дурнота бывает иногда, – сказала Фанни, безо всякого стеснения опираясь на руку Рудольфа.
Тот истолковал ее движение по-своему. Но он заблуждался.
Это был жест отчаяния – того отчаяния, которое собачонку, брошенную в клетку ко льву, заставляет заигрывать с грозным зверем.
Прижавшись к спутнику, она просунула свою руку в его: будь что будет! Сердце готово разорваться, так пусть разрывается.
То была головокружительная страсть глядящего вниз с высокой башни, испытывающего искушение кинуться вниз и разбиться.
Так дошли они до изобилующей всякой растительностью теплицы, где как раз распустилась великолепная белоснежная георгина с нежно-розоватой сердцевинкой – цветок, в Европе тогда еще весьма редкий. Рудольф нашел ее очень красивой, сказав, что только в Шенбрунне [268] видел лучше.
Разговаривая обо всяких пустяках, они продолжали прогуливаться по парку. Рудольф думал, что завоевал уже эту женщину, она – что уже достаточно согрешила, чтобы погибнуть безвозвратно.
Согрешила – пред кем? Перед светом? Нет. И не перед мужем или Рудольфовой женой. Пред собой! Пусть она целый долгий час всего лишь прогуливалась под руку и не говорила ничего, кроме вещей самых безобидных, ничего не значащих или шуточных. Но сердце, сердце ее полнилось греховным счастьем в этот час! И что из того, если никто о том не знает, если ей одной лишь ведомо: счастье ее – краденое. Что из того, ежели сама обокраденная не подозревает всей его ценности? Грех тем тягостней ложится на душу.
Наконец они вернулись в дом.
На минуту Фанни оставила гостя с мужем. Лишь на минуту, ей самой показавшуюся мгновением; а потом просидела с ними до позднего вечера.
Отправляясь спать, Рудольф на столике у дверей отведенной ему комнаты обнаружил букет в изящной китайской вазе. В середине возвышалась та самая великолепная георгина.
Он думал, что понял все.
На следующий день мужчины до самого обеда опять занимались так называемыми делами. Проекты всякие сочиняли, общественные начинания обсуждали, скуку нагоняли друг на друга политическими умствованиями; тут уж не до женщин.
После обеда пошел дождь, повлекший два осложнения сразу: Янош раззевался вдвое против вчерашнего, Фанни же нельзя было скрыться в парк, где под открытым небом опасность меньше.
Лихорадочный жар – вот что ощущала она во всем теле. Она подметила, она знала: мужчина этот, предмет ее безумного обожания, сам хочет, чтобы его полюбили. Если это игра, то какая ужасная! А если правда, еще страшнее.
Стук в дверь. Едва она успевает отозваться: «Войдите», Рудольф уже на пороге.
Фанни не бледна уже больше, щеки ее горят огнем. При виде Рудольфа вскакивает она с кушетки и, пробормотав в полном замешательстве, что сейчас вернется, бросается вон из комнаты. Какую-нибудь собеседницу хотелось найти, которая бы ее выручила. Но ни в соседней комнате, ни в другой, ни в третьей никого. Даже служанок нет. Бог знает, куда все подевались. С обескураживающей этой мыслью пришлось воротиться.
Рудольф же заметил перед ее уходом, что она читала какую-то книгу, проворно ее отложив и набросив на нее платок, чтобы скрыть от него.
И ему, в чьих интересах было глубже проникнуть в характер этой женщины, захотелось узнать, что за книжку она прячет столь старательно. Ведь эти сегодняшние лицемерки про современную молодежь, про новых Мессалин [269] читают, а какими недотрогами прикидываются.
Он сдернул с книги платок и поднял ее. Молитвенник. И меж страниц, на которых он сам раскрылся, – два сплющенных цветка: ирис и амарант…
Все легкомыслие Рудольфа вмиг улетучилось. Сердце его сжалось. Только сейчас он уразумел, какую затеял игру.
Те самые цветы, недавние. И тождество это настолько его потрясло, поглотив все внимание, что он опомнился, только когда пред ним, вся дрожа, остановилась Фанни.
Тайна раскрыта. И утратившая ее испугалась не меньше, чем овладевший.
Оба отпрянули друг от друга.
Молча смотрел Рудольф на молодую женщину, она – на него. Как красива, как пленительно прекрасна в немой своей скорби была эта женщина, которая медленно, безотчетным движением сплела руки и прижала их к груди, силясь сдержать готовое вырваться рыдание.
– Боже мой! – позабыв свою роль, вымолвил глубоко тронутый Рудольф.
Только теперь наконец он все понял.
Эти слова сострадания сломили силы Фанни. Она рухнула в кресло, и слезы полились по ее щекам.
– Почему вы плачете? – ласково взяв ее за руку, спросил Рудольф с участием, хотя прекрасно знал почему.
– Зачем вы приехали сюда? – дрожащим от страстного чувства голосом возразила Фанни, не пытаясь уже более сдерживаться. – Зачем, когда каждый день даю я обет никогда вас больше не видеть, даже мест избегаю, где могу с вами встретиться, – зачем надо было вам отыскивать меня? Теперь я погибла: господь оставил меня. Всю жизнь не было в моем сердце места мужчине, лишь ваш образ хранился в нем. Но сокрытый – глубоко-глубоко. Зачем вам понадобилось опять вызывать его? Не видели вы разве, как бежала я отовсюду, где вы только являлись? Не ваши ли руки последний раз удержали меня, когда я смерти самой неслась навстречу? Ах, сколько мне тогда пришлось из-за вас перестрадать. О, зачем только нужно было вам приезжать, чтобы увидеть меня в таком отчаянии, такой жалкой. Жалкой.
И, плача, она закрыла лицо руками.
Рудольф искренне пожалел о содеянном.
– Ну вот, вы знаете, что одну неразумную женщину воспоминание о вас повергает в отчаяние, – окрепшим уже голосом сказала Фанни, подымая платок с выдавшего тайну молитвенника и отирая глаза. – Какая вам польза, скажите? Счастливее вы будете оттого? А я вот гораздо несчастней стала, потому что самую даже мысль о вас должна гнать от себя теперь.
О, как страдал, какую душевную боль испытывал молодой человек, нанеся рану сердцу столь благородному!
Но что мог он сказать? И какие слова могут послужить тут утешением? Оставалось лишь, протянув руки, дать их покрыть слезами и поцелуями; позволить бедной женщине с безнадежной страстью пасть ему в объятья, чтобы излить в судорожных рыданиях невыразимое свое блаженство и невыразимую муку…
Выплакавшись у него на груди, Фанни наконец притихла.
– Клянусь вам, – слабым, но решительным голосом сказала она, – богом, который будет меня судить, клянусь, что, если еще раз увижу вас, час этот будет и смертным моим часом. Поэтому, если есть у вас хоть капля сострадания, постарайтесь меня избегать. Не о любви умоляю вас, только о жалости. А там уж небо пусть сжалится надо мной.
267
Обе Индии – вест-индские и южноамериканские владения Испанской короны.
268
Шенбрунн – императорский дворец под Веной (ныне – в черте города).
269
Мессалина – распутная жена римского императора Клавдия.