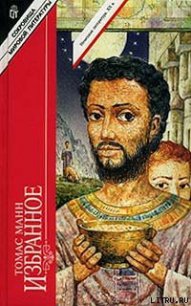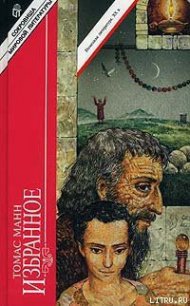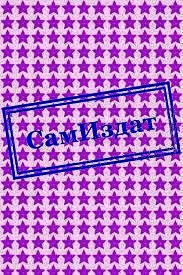Иосиф в Египте - Манн Томас (серия книг txt) 📗
Вот как говорил там Дуду, проворный карлик. И действительно, потеряв голову и по-девичьи подчинившись авторитету сведущего в этих делах человека, Эни, по его указанию, написала записку, так что теперь, прочитав ее, Иосиф не смог скрыть залившей его лицо краски Атума и, досадуя на этот рефлекс, весьма нелюбезно, без благодарности, прогнал прочь своего письмоносца. Но, несмотря на испуганное стрекотанье, которым другие убеждали Иосифа не принимать этого опасного вызова, он принял его и, играя в шашки вдвоем с госпожой в зале с колоннами, под изваянием Ра-Горахте, один раз загнал ее в «угол», а один раз дал ей загнать в «угол» себя, так что победа и поражение взаимно уничтожились, а итог встречи выразился нулем — к разочарованию Дуду, который увидел, что дело так и не сдвинулось с места.
Поэтому он, не жалея себя, потрудился опять и добился возможности еще раз бросить Иосифу из угла своего кошеля:
— Я должен тебе кое-что передать по особому поручению.
— Что же это? — спросил Иосиф.
И тогда-то карлик протянул ему узкую записку, о которой можно сказать, что она продвинула дело одним ужасным толчком, ибо слово, названное нами словом неведения — названное так потому, что оно не было словом уличной девки, а было словом одержимой — это слово стояло там в чистом и недвусмысленном виде — измененное, впрочем, так, как изменяется на письме все на свете, особенно если это письмо египетское, которым, естественно, пользовалась писавшая и в котором, благодаря затейливой убористости его немых обозначений гласных и повсеместно вкрапленным рисункам, обозначающим класс коротких, как согласные, звуков, всегда есть что-то от волшебного ребуса, от витиеватого полуумолчания, от хитроумного логогрифического маскарада, так что оно как бы и в самом деле создано для любовных записок, и самые откровенные вещи приобретают в нем какое-то замысловатое изящество. Решающим местом послания Мут-эм-энет, его, мы бы сказали, солью, были три иероглифа; им предшествовало несколько других, столь же красивых, а дальше, после этих трех, следовал бегло набросанный контур львиноголовой кровати, на которой лежала мумия. Ребус значил «лежать» или «спать». Ибо на языке Кеме это только одно слово; «лежать» и «спать» — это на письме Кеме одно и то же; а вся строчка узкой этой записки, подписанной рисунком коршуна, что означало «Мут», говорила совершенно ясно и прямо: «Приди поспать со мной».
Какой документ! Бесценный, достойный уважения, трогательный, хотя и сомнительный, хотя и недобрый, зловещий. Вот оно, в первоначальной своей форме, в подлиннике, в том виде, какой придал ему язык Египта, вот оно перед нами, то слово призыва, которое, согласно преданию, обратила к Иосифу жена Потифара, — обратила сперва в этом письменном облике, обратила под влияньем Дуду, чадородного карлика, по наущенью его рта-кошеля. Но если даже мы взволнованы видом этого слова, то как потрясло оно Иосифа, когда он его разобрал! Бледный, испуганный, он сжал листок в кулаке и прогнал Дуду повернутой рукояткой вперед мухогонкой. Но письмо, но сладостное требование, но жадный и заманчивый зов любящей госпожи — письмо это осталось у него, и хотя Иосиф едва ли мог честно ему удивиться, он был настолько ошеломлен, настолько взбудоражен, что, увлекшись текущим часом нашего праздника и не зная исхода этой истории, впору было бы опасаться за стойкость семи противодействующих причин, перечисленных выше. А Иосиф, с которым эта история происходила, когда впервые рассказывала себя самое, он и в самом деле целиком жил текущим часом праздника, ибо никак не мог заглянуть в дальнейшее и ни в коем случае не должен был знать исхода. В том месте, где мы находимся, эта история была на распутье, и в миг, который ее решил, никто не мог поручиться за то, что семь причин и вправду не будут посрамлены и что Иосиф не впадет в грех, — тогда бабушка еще надвое гадала. Спору нет, Иосиф был полон решимости не совершать этой великой ошибки и ни за что не ссориться с богом. Но сморчок Боголюб был прав, усмотрев в том, что его друг наслаждается предоставленной ему свободой выбора между добром и злом, что-то подобное наслаждению самим злом, а не только свободой сотворить зло; а такая неосознанная склонность ко злу, понимаемая лишь как удовольствие по поводу свободы выбора, включает в себя прежде всего другую склонность — закрывать глаза на зло и даже, в некоем помрачении рассудка, предполагать в нем добро. Бог относился к Иосифу так чудесно, — да настроен ли он вообще отказывать ему в этой гордой, в этой сладостной радости, которая представилась юноше, которую он сам, может быть, и предоставил ему? А вдруг эта радость — предусмотренное средство того возвышения, ожиданием которого жил похищенный мальчик, возвышения, которое, благодаря его успехам в доме, настолько продвинулось, что теперь госпожа обратила на него взоры и жаждет назвать ему вместе со своим сладостным именем имя земли Египетской, сделать его, так сказать, властителем мира? Какой юноша, которому дарит себя любимая, не возомнит себя властителем мира? А разве не именно это, не господство над миром, готовил Иосифу бог?
Вот каким соблазнам был подвержен его к тому же не совсем уже ясный рассудок. Добро и зло вполне готовы были смешаться в его сознании; бывали мгновения, когда его соблазняло истолковать зло как добро, и хотя иероглиф после «лежать» показывал Иосифу, из какого царства шло это искушение и что поддаться ему значило нанести непростительную обиду тому, кто был не мертвым, как мумия, богом ничего не сулящей вечности, а богом будущего, — тем не менее у Иосифа были все основания не доверять силе семи причин и ходу будущих часов праздника и не обращать вниманья на маленького своего друга, который шепотом заклинал его не ходить к госпоже, не принимать больше записок у злого куманька и бояться огненного быка, чье дыханье с минуты на минуту испепелит прекрасную ниву. Бесспорно, это было легче сказать, чем сделать, — избегать госпожи, ибо она была госпожа, и если она звала его, он обязан был явиться на зов. Но как радуется человек самой возможности выбрать зло, как упивается он своей свободой выбора, как любит играть с огнем. Он играет с ним не то из самоуверенной храбрости, дерзающей схватить этого быка за рога, не то из легкомыслия и ради тайного удовольствия, — кто разберет!
Больной язык (Игра и проигрыш)
Настала ночь на третьем году, когда Мут-эм-энет, жена Потифара, прикусила себе язык, потому что ей неудержимо хотелось сказать молодому управляющему почетного своего супруга то самое, что она уже написала ему в виде ребуса, а в то же время, из гордости и стыда, она запрещала своему языку так говорить с ним и предлагать этому рабу свою кровь, чтобы он успокоил ее. Такое уж противоречие заключала в себе ее роль госпожи, что, с одной стороны, ей было страшно так говорить с ним и предложить ему свою плоть и кровь в обмен на его плоть и его кровь, а с другой стороны, ей положено было это сделать как по-мужски домогающейся и, так сказать, бородатой стороне в любви. Поэтому она ночью прикусила себе язык сверху и снизу, так что почти даже прокусила его, и на следующий день, из-за болезненной этой помехи, лепетала, как малое дитя.
В течение нескольких дней после передачи записки она не хотела видеть Иосифа и не показывалась ему на глаза, потому что боялась взглянуть ему в глаза после того, как письменно потребовала его поражения. Но именно лишив себя его близости, она созрела для того, чтобы собственными устами сказать ему то, что было уже сказано волшебными знаками; потребность видеть его рядом с собой обернулась потребностью сказать ему те слова, которых он, раб в любви, не смел говорить, так что узнать, выражают ли они его заветные мысли, она, госпожа, могла не иначе, как сама сказав ему эти слова и предложив свою плоть и свою кровь в страстной надежде, что это соответствует сокровенным его желаниям и что она выскажет его мысли. Ее роль госпожи обрекала ее на бесстыдство; но за него она ночью заранее себя наказала, прикусивши язык, так что теперь она могла все-таки высказаться, насколько это позволяло ее наказание, то есть лепеча, как ребенок, что было даже удобно, ибо придавало предельно откровенным словам какую-то беспомощность и невинность, делая грубое неожиданно трогательным.