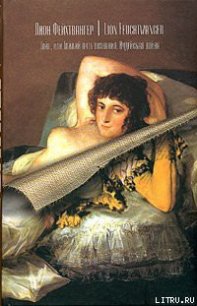Еврей Зюсс - Фейхтвангер Лион (читать полную версию книги .txt) 📗
Такие разговоры шли при всех дворах. Над вюртембергскими посланниками подтрунивали, а всего больше издевались над расчетливой государственной моралью, пользующейся любовными идиллиями частного лица для пополнения государственного бюджета. Ни для кого не было тайной и то обстоятельство, что судьи затягивают следствие, дабы сохранить свои суточные. Господа судьи – так говорилось повсюду – до тех пор роются в каждой амурной связи еврея, пока не заработают на ней по тысяче талеров.
Иоганн Даниэль Гарпрехт явился к герцогу-регенту доложить о ходе следствия. Он высказался откровенно и прямо. Если такое положение продлится, швабская юстиция утратит всякий престиж. Довольно уж тянется эта скандальная история. Нечего и говорить, что он тоже считает еврея зловредным клопом. Но позволительно ли в современном правовом государстве так истязать человека? Пора уже свести воедино все аргументы и поспешить с выводами и приговором. Какой позор, что все остальные завзятые мошенники выпущены на волю. Ему ясна политическая необходимость подобных послаблений, но зачем же срамиться, допуская ни с чем не сообразное варварское обращение с евреем? В частности, вся канитель, которую разводит комиссия по поводу его амурных дел, действует развращающе на страну. Старый законник разгорячился и говорил, не выбирая выражений. Ведь если следовать голой букве давно отжившего закона, надо и женщин сжечь на костре. А об этом никто и не помышляет. Чего же тогда, черт побери, затевать такую историю? Каждую ночь в герцогстве происходит не меньше сотни тысяч совокуплений. Лежа в постели с женщиной, никакой еврей и никакой еретик не угрожает безопасности государства, религии и конституции. Хорошо было бы, если бы еврей ничем другим не занимался ни днем, ни ночью. Кстати, на его взгляд, еврей, несмотря на все пытки не назвавший ни одного имени, много благороднее своих ретивых судей. Пора наконец вытащить носы и руки из этой грязи. Мрачно слушал его старый регент. Ведь Гарпрехт прямо и резко выложил все то, что сам он смутно ощущал. Долг! Справедливость! И он дал приказ прекратить дознание касательно женщин. Некоторые из них были, по его распоряжению, наказаны розгами и присуждены провезти по городу телегу с навозом.
С Зюссом он велел обращаться не слишком мягко, но по-человечески. С педантичной точностью выполнил майор Глазер эти указания: «Не слишком мягко». В камере еврея по-прежнему было пять с половиной шагов, заковывали его каждые два дня, мясо ему давали только по воскресеньям, одежду разрешали носить самую грубую. «Но по-человечески». Допросы между девятью и десятью часами отпали. Через день ему приносили воды умыться, в камере его настлали деревянный пол и поставили нары для спанья.
На членов комиссии указ регента произвел большое впечатление. Да и несмотря на все громкие слова, им становилось не по себе от непрерывно возрастающего, умело разжигаемого возмущения иностранных дворов. Оказалось, что не так-то просто подвести под осуждение законную базу. Что Гарпрехт и Шепф ни в коем случае не подпишутся под ним, было совершенно ясно; но и остальные, особенно те, что помоложе, заколебались, испугались, как бы не скомпрометировать себя. Лиценциат Меглинг, добросовестный защитник, расцвел. Он был уверен, что более мягкое обращение с Зюссом и перемена в настроении некоторых судей – дело его рук. Правда, доступа к своему подзащитному он все еще добивался с трудом, а протоколы допросов ему попросту не желали показывать, так что для защитительной записки у него материала не прибавилось, но тем тщательнее он отшлифовывал ее, округлял и отделывал фразы, и совесть у него была спокойна, – он честно, в поте лица, зарабатывал свой гонорар.
С тревогой и злобой наблюдал тайный советник Пфлуг, как из-за еврейских махинаций осуждение и уничтожение Зюсса повисает в воздухе. Его холодный фанатизм не мирился с этим, терзал ему душу, не давал покоя. Цель была так близка; он не перенес бы, если бы она совсем ускользнула от него. Тощий, желчный, одержимый одним стремлением, недоступный никаким доводам, он зачастил к членам парламента, которые были известны ему как непримиримые враги Зюсса. Неустанно совещался с доном Бартелеми Панкорбо. Не щадил ни средств, ни трудов. Появились летучие листки, отвлекавшие на Зюсса весь народный гнев по поводу того, что разные Мецы, Бюлеры, Гальваксы гуляют на свободе. Был пущен слух, что скоро освободят и еврея. Тех судей, от которых ожидали снисхождения, включая сюда и всеми почитаемого Гарпрехта, всячески обрабатывали и даже спаивали в трактирах. Дело дошло до демонстраций и бунтов. «На виселицу еврея!» – провозгласили господин фон Пфлуг и дон Бартелеми. «На виселицу еврея!» – гремело в парламенте и с церковных амвонов. «На виселицу еврея!» – орала толпа, распевали на бойкий хоровой мотив уличные мальчишки, подтверждали крестьяне на отдаленных дворах, натужно шевеля мозгами. Подобным нажимом господин фон Пфлуг достиг того, что некоторые из судей вышли из состава комиссии. Их места заступили личные враги Зюсса, чьи голоса, несомненно, будут поданы согласно его, Пфлуга, желанию, – бывшие министры Форстнер и Негенданк, в свое время отставленные по милости Зюсса, холодный, увертливый честолюбец Андреас Генрих Шютц, которому при Карле-Александре Зюсс постоянно ставил палки в колеса; кроме того, происками господина фон Пфлуга и молодой тайный советник фон Гетц был включен в комиссию, дабы он мог сорвать свой мстительный гнев на погубителе матери и сестры. Таковы были люди, которых теперь назначили судить Зюсса. В них ненависть пылала жарче, чем алчность к деньгам, народ настаивал на смертном приговоре, и они рады были уступить его настояниям. Прежде всего они поспешили закончить следствие. Обвинительный акт, составленный государственным советником Филиппом Генрихом Егером, возлагал на Зюсса вину чуть ли не за все, что случилось плохого при Карле-Александре, даже за то, о чем он никоим образом не мог знать; признавал его ответственным за служебную деятельность всех решительно государственных чиновников, начиная от членов кабинета министров и кончая всякой мелкотой. Добросовестную защитительную записку честного адвоката Меглинга еле прочитали. Ослепленные ненавистью, судьи отмахнулись от совершенно ясного существа дела, едва коснулись в мотивировке приговора многочисленных доводов, оспаривавших их правомочность и совершенно исключавших законность осуждения Зюсса.
Они признали еврея виновным в бессчетных преступлениях: во-первых, против герцога, во-вторых, против его верных соратников, министров и всей нации, ибо он очернил их в глазах государя и тем самым навлек на них немилость и недоверие; в-третьих, и особливо, против парламента и конституции – в доказательство чему было приведено множество распоряжений Зюсса, и в первую очередь указ насчет трубочистов; и в-четвертых, против целых общин и отдельных подданных. Они объявили его повинным в оскорблении величества, в государственных преступлениях, в чеканке фальшивой монеты, в изменнических и вредоносных действиях.
На основании сего особое судебное присутствие, назначенное для расследования преступлений Иозефа Зюсса Оппенгеймера, иудея и бывшего финанцдиректора, приговорило его к смерти через повешение. Этот род казни был определен подсудимому прежде всего потому, что он был обычной карой для совокупности преступлений, в которых тот был обвинен, в частности же потому, что повешение представляло собой нечто среднее между четвертованием, которому подвергают виновных в оскорблении величества, сожжением заживо, к которому присуждают фальшивомонетчиков, и более почетной казнью через отсечение головы.
Члены комиссии ходили с гордым видом. Они облекли приговор в относительно пристойную форму. Пускай педантичные законники придираются сколько угодно, им же довольно сознания, что народ здоровым чутьем своим поддерживает их.
Ежась и ерзая, сидел дармштадтский советник по финансам и министерский фактор барон Тауфенбергер в своем кабинете, заполненном кипами документов. Напротив него, беспомощная, красивая и глупая, сидела его мать, Микаэла Зюсс. Целых семь лет, с тех пор как он перестал прозываться Натаном Зюссом Оппенгеймером, а принял в крещении имя барона Людвига Филиппа Тауфенбергера, она не посещала его. Красивая пожилая дама, заполнявшая свою пустую жизнь заботами о туалетах, обширной перепиской, театром, покровительством юным талантам, путешествиями, светскими приемами, всегда пугливо избегала Дармштадта, местожительства своего старшего сына. Она бы поняла, если бы младший, Иозеф, принял веру своего отца, и, пожалуй, даже обрадовалась бы этому, она с виноватой нежностью искала в его чертах сходство с отцом. А что Натан, сын кантора Иссахара Зюсскинда, перешел в христианство, это она считала величайшим кощунством, за которое рано или поздно придет расплата. Недоверчиво смотрела она на его счастье и успех. Но чтобы Иозефа, правоверного, благородного Иозефа, который спас Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя и, несмотря на соблазн и неслыханное искушение, остался евреем, чтобы его так жестоко низвергли, меж тем как выкрест и вероотступник продолжает пышно процветать, это совершенно выводило ее из равновесия.