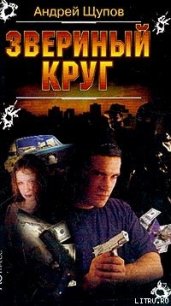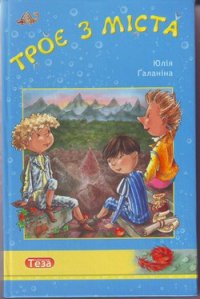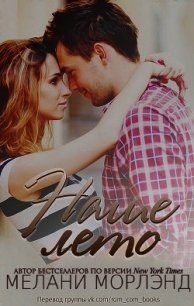Защита Лужина - Набоков Владимир Владимирович (лучшие книги онлайн txt) 📗
Из всего этого, из всей этой грубой мешанины, – так и липнущей, так и прущей из всех углов памяти, принижающей всякое воспоминание, загораживающей путь свободной мысли, – непременно следовало осторожно, по кусочкам, выскрести и целиком впустить в книгу – Валентинова. Человек несомненно талантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное; чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля, инженер, превосходный математик, любитель шахмат и шашек, «амюзантнейший господин», как он сам рекомендовал себя. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлекательная манера смеяться. Он носил на указательном пальце перстень с адамовой головой и давал понять, что у него были в жизни дуэли. Одно время он преподавал гимнастику в школе, где учился маленький Лужин, и большое впечатление производило на учеников и учителей то, что за ним приезжает таинственная дама в лимузине. Он изобрел походя удивительную металлическую мостовую, которая была испробована в Петербурге, на Невском, близ Казанского собора. Он же сочинил несколько остроумных шахматных задач и был первым экспонентом так называемой «русской» темы. Ему было двадцать восемь лет в год объявления войны, и никакой болезнью он не страдал. Анемическое слово «дезертир» как-то не подходило к этому веселому, крепкому, ловкому человеку, – другого слова, однако, не подберешь. Чем он занимался за границей во время войны – так и осталось неизвестным.
Итак, было решено полностью им воспользоваться, благодаря ему любая фабула приобретала необыкновенную живость, привкус авантюры. Но самое главное еще оставалось придумать. Ведь все это до сих пор были только краски, правда, теплые, живые, но плывшие отдельными пятнами; требовалось еще найти определенный рисунок, резкую линию. Впервые писатель Лужин, задумав книгу, невольно начинал с красок.
И чем ярче становились в его воображении эти краски, тем труднее ему было засесть за пишущую машинку. Прошел месяц, другой, началось лето, и он все продолжал одевать в наряднейшие цвета незримую еще тему. Ему казалось иногда, что вот, книга написана, и он ясно видел набор, полосы гранок с красными иероглифами по краям, а потом свеженькую, брошюрованную книгу, хрустящую в руках, а дальше был чудесный розовый туман, сладостные награды за все неудачи, за все обманы славы. Он ходил в гости к многочисленным своим знакомым и подолгу, с удовольствием, рассказывал о своей книге. В одной эмигрантской газете появилась заметка о том, что он, после долгого молчания, работает над новой повестью. И эту заметку, им же составленную и посланную, он с волнением перечел раза три, вырезал, положил в бумажник. Он стал чаще появляться на литературных вечерах, устраиваемых адвокатами и дамами, и предполагал, что, должно быть, все на него смотрят с любопытством и уважением. Как-то, в неверный летний день, он поехал за город, промок под внезапным ливнем, пока тщетно искал белых грибов, и на следующий день слег. Болел он одиноко и кратко, и смерть его была неспокойна. Правление союза эмигрантских писателей почтило его память вставанием.
6
«Непременно все высыплется», – сказал Лужин, опять завладев сумкой.
Она быстро протянула руку, отложила сумку подальше, хлопнув ею об столик, – как бы подчеркивая этим запрет. «Вечно вам нужно теребить что-нибудь», – проговорила она ласково.
Лужин посмотрел на свою руку, топыря и снова сдвигая пальцы. Ногти были желтые от курения, с грубыми заусенцами, на суставах тянулись толстые поперечные морщинки, пониже росли редкие волоски. Он положил руку на стол, рядом с ее рукой, молочно-бледной, мягкой на вид, с коротко и аккуратно подстриженными ногтями.
«Я жалею, что не знала вашего отца, – сказала она погодя. – Он, должно быть, был очень добрым, очень серьезным, очень любил вас».
Лужин промолчал.
«Расскажите мне еще что-нибудь, – как вы тут жили? Неужели вы были когда-нибудь маленьким, бегали, возились?»
Он опять положил обе руки на трость, – и, по выражению его лица, по сонному опусканию тяжелых век, по чуть раскрывшемуся рту, словно он собирался зевнуть, она заключила, что ему стало скучно, что вспоминать надоело. Да и вспоминал-то он равнодушно, – ей было странно, что вот, он месяц тому назад потерял отца и сейчас без слез может смотреть на дом, где он в детстве жил с ним вместе. Но даже в этом равнодушии, в его неуклюжих словах, в тяжелых движениях его души, как бы поворачивавшейся спросонья и засыпавшей снова, ей мерещилось что-то трогательное, трудно определимая прелесть, которую она в нем почувствовала с первого дня их знакомства. И как таинственно было то, что, несмотря на очевидную вялость его отношения к отцу, он все-таки выбрал именно этот курорт, именно эту гостиницу, как будто ждал от когда-то уже виденных предметов и пейзажей того содрогания, которого он без чужой помощи испытать не мог. А приехал он чудесно, в зеленый и серый день, под моросящим дождем, в безобразной, черной, мохнатой шляпе, в огромных галошах, – и, глядя из окна на его фигуру, грузно вылезавшую из отельного автобуса, она почувствовала, что этот неизвестный приезжий – кто-то совсем особенный, непохожий на всех других жителей курорта. В тот же вечер она узнала, кто он. Все в столовой смотрели на этого полного, мрачного человека, который жадно и неряшливо ел и иногда задумывался, водя пальцем по скатерти. Она в шахматы не играла, никогда шахматными турнирами не интересовалась, но каким-то образом его имя было ей знакомо, бессознательно въелось в память, и она не могла вспомнить, когда впервые услышала его. Фабрикант, страдавший давним запором, о котором охотно говорил, человек об одной мысли, но добродушный, приятный, не без вкуса одетый, – вдруг забыл о запоре и в галерее, где пили целебную воду, сообщил ей несколько удивительных вещей о мрачном господине, который, переменив мохнатую шляпу на старое канотье, стоял перед витринкой, вделанной в колонну, и разглядывал кустарные вещицы, выставленные для продажи. «Ваш соотечественник, – сказал фабрикант, указывая на него бровью, – знаменитый шахматный игрок. Приехал из Франции на турнир. Турнир будет в Берлине, через два месяца. Если выиграет, то вызовет чемпиона мира. Отец у него недавно умер. Вот тут в газете все это сказано».
Ей захотелось познакомиться с ним, поговорить по-русски, – столь привлекательным он ей показался своей неповоротливостью, сумрачностью, низким отложным воротником, который его делал почему-то похожим на музыканта, – и ей нравилось, что он на нее не смотрит, не ищет повода с ней заговорить, как это делали все неженатые мужчины в гостинице. Была она собой не очень хороша, чего-то недоставало ее мелким, правильным чертам. Как будто последний, решительный толчок, который бы сделал ее прекрасной, оставив те же черты, но придав им неизъяснимую значительность, не был сделан. Но ей было двадцать пять лет, по моде остриженные волосы лежали прелестно, и был у нее один поворот головы, в котором сказывался намек на возможную гармонию, обещание подлинной красоты, в последний миг не сдержанное. Она носила очень простые, очень хорошо сшитые платья, обнажала руки и шею, немного щеголяя их нежной свежестью. Она была богата, – ее отец, потеряв одно состояние в России, нажил другое в Германии. Ее мать должна была скоро приехать на этот курорт, и с тех пор, как возник Лужин, ожидание ее шумливого появления стало чем-то неприятно.
Она познакомилась с ним на третий день его приезда, так, как знакомятся в старых романах или в кинематографических картинах: она роняет платок, он его поднимает, – с той только разницей, что она оказалась в роли героя. Лужин шел по тропинке перед ней и последовательно ронял: большой клетчатый носовой платок, необыкновенно грязный, с приставшим к нему карманным сором, сломанную, смятую папиросу, потерявшую половину своего нутра, орех и французский франк. Она подобрала только платок и монету и медленно догоняла его, с любопытством ожидая новой потери. Лужин шел, держа в правой руке трость, которой он трогал каждый ствол, каждую скамью, а левой рукой он шарил в кармане и, наконец, остановился, вывернул карман и стал разглядывать в нем дырку. При этом выпала еще монета. «Насквозь», – сказал он по-немецки, взяв из ее руки платок («еще вот это», – сказала она по-русски). «Скверная материя», – продолжал он, не поднимая головы, не переходя на русский язык, ничему не удивляясь, словно возвращение вещей было вполне естественным. «Да не суйте опять туда же», – сказала она и покатилась со смеху. Только тогда он поднял голову и хмуро на нее посмотрел. Его полное, серое лицо, с плохо выбритыми, израненными бритвой щеками, приобрело растерянное и странное выражение. У него были удивительные глаза, узкие, слегка раскосые, полуприкрытые тяжелыми веками и как бы запыленные чем-то. Но сквозь эту пушистую пыль пробивался синеватый, влажный блеск, в котором было что-то безумное и привлекательное. «Не роняйте больше», – сказала она и пошла от него прочь, чувствуя его взгляд у себя на спине. Вечером, входя в столовую, она невольно издали улыбнулась ему, и он ответил той угрюмой, кривой полуулыбкой, с которой иногда смотрел на черную отельную кошку, бесшумно проскользавшую от столика к столику. А на следующий день, в саду, где были гроты, фонтаны и глиняные карлы, он подошел к ней и густым, грустным голосом стал благодарить за платок, за монету (и с той поры он смутно, почти бессознательно все следил, не роняет ли она чего-нибудь, – как будто стараясь восстановить какую-то тайную симметрию). «Не за что, не за что», – ответила она и много еще произнесла таких слов, – бедные родственники настоящих слов, – и сколько их, этих маленьких сорных слов, произносимых скороговоркой, временно заполняющих пустоту. Употребляя такие слова и чувствуя их мелкую суетность, она спросила, нравится ли ему курорт, надолго ли он тут, пьет ли воду. Он отвечал, что нравится, что надолго, что воду пьет. Потом она спросила, сознавая глупость вопроса, но не в силах остановиться, – давно ли он играет в шахматы. Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего дня. Он продолжал молчать, и она замолчала тоже, и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только сломанный гребешок. Он вдруг повернул к ней лицо и сказал: «Восемнадцать лет, три месяца и четыре дня». Для нее это было восхитительным облегчением, а к тому же изысканная обстоятельность его ответа чем-то польстила ей. Впрочем, ее вскоре начало немного сердить, что он, в свой черед, не задает ей никаких вопросов, принимает ее как бы на веру.