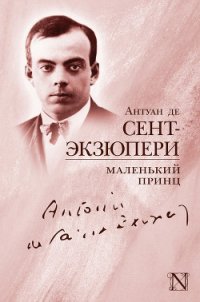Южный почтовый - де Сент-Экзюпери Антуан (мир бесплатных книг txt) 📗
IX
– Нет, ничего… Оставь меня… Ах, уже пора?
Бернис встал. Все его движения во сне были медлительны, как у грузчика. Как жесты апостола, извлекающего вашу душу из глубин подсознания. Каждый его шаг был исполнен смысла, словно в танце. «Любовь моя…»
Он ходит взад и вперед. по комнате: до чего все нелепо.
Рассвет грязнит окно. А ночью оно было темно-синим. При зажженной лампе оно светилось такой глубокой, сапфировой синевой. Этой ночью окно было раскрыто в звездные дали. Он думал. Он грезил. Он на носу корабля.
Она поджимает колени, собственное тело кажется ей безвольным и осевшим, как плохо пропеченный хлеб. Сердце бьется часто и ноет. Так бывает в поезде. Вагонные оси выстукивают ритм бегства. Вагонные оси выстукивают биение сердца. Прижимаешься лбом к стеклу, и перед твоими глазами проносится ландшафт: какие-то черные силуэты, которые наконец стягивает горизонт и обводит покоем, сладостным, как смерть.
Ей хотелось бы крикнуть: «Удержи меня!» Ведь руки любви связывают вас с вашим настоящим, с вашим прошлым, с вашим будущим, руки любви собирают вас…
– Не надо. Оставь меня.
Она подымается.
X
«Это решение, – думал Бернис, – это решение было принято помимо нашей воли. Все произошло без слов». Как будто об этом возвращении они условились заранее. Она заболела, и о дальнейшем путешествии нечего было и думать. А там будет видно. Она так недолго отсутствовала. Эрлен в отъезде, все образуется. Бернис удивлялся тому, как легко все обошлось. Но он прекрасно понимал, что это не так. Просто теперь каждый шаг не стоил им никаких усилий.
Впрочем, он не был уверен в себе. Он сознавал, что и на этот раз уступил каким-то внутренним образам. Но из каких глубин встают эти образы? Сегодня утром, проснувшись под низким, темным потолком, он вдруг подумал: «Ее дом был ковчегом. Он переправил с одного берега на другой много! поколений. Путешествие само по себе смысла не имеет, но какая уверенность преисполняет человека, когда у него есть собственный билет, собственная каюта и чемодан из рыжей кожи. Взойти на корабль…»
Жак еще не понимал, страдает ли он, он отдавался судьбе, и будущее надвигалось независимо от его воли. Человек не страдает, отдаваясь чему-то. Даже отдаваясь печали, он не страдает. Страдание придет позже, когда Бернис останется лицом к лицу с теми внутренними образами. Он понял, что им легко дается эта вторая, заключительная глава их повести, потому что роли их были предопределены внутри их самих. Он твердил это себе, ведя машину, которая по-прежнему плохо слушалась. Уж как-нибудь они доедут. Они положатся на судьбу. Вечно этот образ судьбы.
Когда они подъезжали к Фонтенбло, ей захотелось пить. Они узнавали малейшие подробности пейзажа. Он спокойно располагался вокруг. Он вселял уверенность. Это было то привычное окружение, которое вновь обрамляло их жизнь.
В закусочной им подали молока. Куда им торопиться? Она маленькими глотками пила молоко. Им некуда было торопиться. Все происходящее надвигалось с неотвратимой необходимостью: и вечно этот образ необходимости.
Она нежна. Она признательна ему за многое. Теперь их отношения непринужденнее, чем вчера. Она улыбается, показывая на птичку, клюющую крошки перед дверью. Ее лицо кажется ему новым. Где он видел это Лицо?
У попутчиков. У попутчиков, с которыми жизнь через несколько минут разлучит вас. На перронах. Это лицо уже может улыбаться, оно способно жить какими-то неведомыми вам чувствами.
Он снова взглянул на нее. Он видел ее склоненный профиль, она задумалась. Он терял ее, едва она поворачивала голову.
Она все еще любила его, конечно, но не надо слишком много требовать от слабенькой девочки. Он, разумеется, не мог сказать ей: «Я возвращаю вам свободу» – или какую-нибудь подобную же банальность, но он заговорил о своих планах на будущее. И она уже не была пленницей в той новой жизни, которую он себе придумывал. Она благодарно положила свою маленькую руку ему на плечо.
– Вы мой самый, самый любимый…
И это была правда, но в то же время эти слова означали, что они не созданы друг для друга.
Упрямая и нежная. И ежеминутно готовая стать, сама того не ведая, черствой, жестокой, несправедливой. Ежеминутно готовая любой ценой отстаивать какое-то свое непостижимое достояние. Твердая и нежная.
Но она не была создана и для Эрлена. Он это знал. Та жизнь, к которой, по ее словам, она возвращалась, всегда была ей только в тягость. Для чего же она была создана? Она, казалось, не страдает.
Они снова пустились в путь. Бернис чуть отворачивался влево. И он тоже умел справляться со своим страданием, но какой-то раненый в нем зверь плакал, и Бернис был не волен в этих слезах.
В Париже никакой суеты: стоит ли подымать шум по таким пустякам.
XI
Зачем? Город вокруг него продолжал жить своей бессмысленной толчеей. Бернису было ясно, что это смятение ни к чему уже не приведет. Он медленно продвигался навстречу потоку чужих людей. Он думал: «Меня словно и нет». Он должен был вскоре уехать, и это было хорошо. Он знал – работа так прочно свяжет его со всем окружающим миром, что он сам снова станет реальностью. Он прекрасно знал, что в повседневном обиходе малейший шаг приобретает значительность реального факта, а душевные драмы в какой-то мере утрачивают свою трагичность. Даже шутки товарищей сохранят для него свою прелесть. Это было странно, но это было так. Впрочем, он не слишком интересовался собой.
Проходя мимо Нотр-Дам, Бернис зашел в собор. Его поразила огромная толпа молящихся; он прислонился к колонне. «Почему я вдруг оказался здесь?» – недоумевал он. Да хотя бы потому, что здесь каждая минута вела куда-то. А там, снаружи, они уже никуда не вели. Именно: «Там минуты уже никуда не ведут». И, кроме того, ему захотелось разобраться в себе, отдаться вере, как некой философской концепции. Он думал: «Если я найду здесь формулу, которая выразит мои мысли, которая будет мне близка, она станет для меня истиной». И тут же устало договаривал: «И все-таки я не уверую в нее».
Ему внезапно показалось, что он снова стоит на перепутье и что вся жизнь его прошла вот в таких попытках к бегству. Первые слова проповеди взволновали его, как сигнал к отплытию.
– Царство небесное, – начал проповедник, – царство небесное…
Опершись вытянутыми руками на широкие перила кафедры, проповедник склонился над толпой. Над голодной толпой, жаждавшей любой пищи. Надо насытить ее. Перед ним вставали образы необычайной убедительности. Ему представилась пойманная в верши рыба, и он, без всякой связи, продолжал:
– Когда рыбак из Галилеи…
Проповедник бросал в толпу бессвязные слова, которые тянули за собой вереницы ассоциаций, оставлявших долгий отзвук. Ему казалось, что он медленно и упорно расшевеливает толпу, постепенно разжигая ее порыв, словно подстегивая скакуна.
– Если бы вы знали… Если бы вы знали, сколько любви…
Он запнулся, задыхаясь: он был слишком взволнован, чтобы выразить все, что его переполняло. Самые ничтожные, самые избитые слова казались ему насыщенными таким глубоким смыслом, что он уже не в состоянии был выбирать среди них самые весомые. При свете зажженных свечей лицо его было восковым. Он вытянулся, опираясь руками на кафедру, подняв голову, весь устремленный ввысь. Он умолк, и толпа всколыхнулась, как море.
Потом он нашел нужные слова и заговорил. Он говорил с поразительной убежденностью, орудуя словами, как грузчик, уверенный в своей силе. В то время как он заканчивал последнюю фразу, его осеняли мысли, возникавшие где-то вне его, и он подхватывал их, словно перекидываемый ему груз, уже заранее смутно предугадывая тот образ, в который он эти мысли воплотит, ту формулу, в которой он передаст их толпе.
Бернис слушал проповедь.
– Я источник всяческой жизни. Я – морской прилив, заливающий и животворящий вас и снова отступающий. Я зло, заливающее вас, и раздирающее вас, и отступающее. Я любовь, заливающая вас и не преходящая вовек.