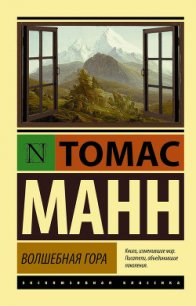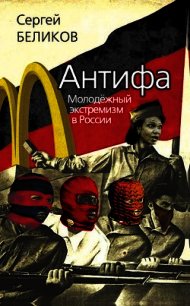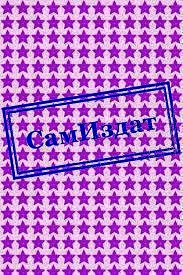Волшебная гора. Часть II - Манн Томас (книги онлайн txt) 📗
Его средиземный друг и наставник неизменно старался хоть как-то помочь ему и держать это трудновоспитуемое дитя в курсе событий, происходивших внизу, сообщая о них хотя бы в самых общих чертах; но ученик слушал его неохотно, ибо, хотя он, «управляя», и грезил о некиих духовных тенях предметов, но на сами предметы не обращал внимания, — из высокомерной склонности принимать тени за предметы, а в предметах видеть только тени — за что его особенно и винить нельзя, ибо их взаимоотношения до сих пор не выяснены окончательно.
Все уже происходило не так, как раньше, когда Сеттембрини, сидя у постели принявшего горизонтальное положение Ганса Касторпа и установив, что он болен, старался воздействовать на него в решении вопросов о жизни и смерти и исправлять его. Наоборот, зажав руки между коленями, теперь Ганс Касторп сидел у постели гуманиста, в его спаленке, или возле его дневного ложа, в укромной и уютной студии — мансарде, с карбонарскими стульями и графином, развлекал его и вежливо выслушивал его рассуждения по поводу международных событий: уже редко бывал господин Лодовико на ногах. Ужасная смерть Нафты, террористический акт впавшего в отчаянье спорщика явились тяжелым ударом для его чувствительной натуры, он никак не мог от него оправиться и с тех пор ощущал все большую слабость и вялость. Его работа над «Социологией страданий» приостановилась, словарь всех художественных произведений, в которых изображалось человеческое страдание, не двигался, и некая «Лига» тщетно ждала соответствующего тома своей энциклопедии; Сеттембрини был вынужден сильно ограничить свое сотрудничество в организации прогресса и свести его к устным высказываниям, а дружеские посещения Ганса Касторпа давали ему эту возможность, иначе он был бы лишен и ее.
Он говорил слабым голосом, но много, красиво и горячо о самосовершенствовании человека на путях общественной жизни. Речь его, казалось, шла «голубиной поступью», но когда он касался объединения всех освобожденных народов ради всеобщего счастья, то к ней — хотя он, вероятно, не чувствовал и не хотел этого — примешивалось нечто подобное шуму орлиных крыльев; и это бесспорно делала его страсть к политике — наследию деда, которая, в сочетании с гуманистическим наследием отца, породила в нем любовь к изящной словесности, совершенно так же, как гуманизм и политика соединились в высокой и торжественной, как тост, идее цивилизации, полной голубиной кротости и орлиной смелости, ожидавшей своего дня, утра народов, когда принцип косности будет разбит и возникнет священный альянс всей буржуазной демократии… Впрочем, тут чувствовалась некоторая неувязка. Сеттембрини был гуманистом, но вместе с тем и именно потому, — хоть он и не охотно сознавался в этом, — чувствовал в себе воинственность. Во время дуэли с яростным Нафтой он вел себя в полном смысле слова как человек; но если человечность вдохновенно сочеталась с политикой, с идеей победы и господства цивилизации и копье гражданина освящалось на алтаре человечества, — становилось сомнительным, удержит ли он свою руку от пролития крови; а внутренние причины и импульсы все больше содействовали тому, что в возвышенных умонастроениях Сеттембрини элементы орлиной смелости все решительнее оттесняли голубиную кротость.
Его отношение к международным группировкам бывало нередко двойственным, оно затуманивалось сомнениями и неуверенностью. Еще недавно, годика полтора или два тому назад, он высказывал в разговоре с Гансом Касторпом беспокойство по поводу дипломатических совместных действий его отечества и Австрии; они, с одной стороны, воодушевляли его, так как были направлены против некультурной полуазиатской страны, против кнута и Шлиссельбурга, а с другой — мучили, ибо это был недостойный союз с исконным врагом, с принципом косности и порабощения народов. Большие займы, которые прошлой осенью Франция предоставила России для постройки железнодорожной сети в Польше, вызвали в нем столь же противоречивые чувства. Ибо Сеттембрини принадлежал к франкофильской партии в своей стране, и тут нечему удивляться, ведь недаром его дед приравнял дни июльской революции к дням сотворения мира; но соглашение этой просвещенной республики с византийскими скифами морально смущало его, — однако при мысли о стратегическом значении этой железнодорожной сети тягостная тревога сменялась облегчающей сердце надеждой и радостью. Затем произошло убийство эрцгерцога, оно послужило для всех, кроме немецких сонливцев, сигналом тревоги, указанием для понимающих, к которым мы с полным правом можем причислить и Сеттембрини. Ганс Касторп видел, что он как человек содрогается от такого злодейства, но видел также его радостное волнение при мысли о том, что это — деяние народное и освободительное, направленное против ненавистной ему цитадели зла [219], хотя нельзя было забывать, что акт этот — результат московских усилий. Сеттембрини очень тревожился, что не помешало ему спустя три недели назвать ультимативные требования, предъявленные некоей монархией к Сербии [220], оскорблением человечества и чудовищным преступлением, — с точки зрения его последствий, в характер которых он был посвящен; но как раз их масон, задыхаясь, приветствовал…
Словом, переживания Сеттембрини были весьма сложными, как и то роковое событие, за быстрым назреванием которого он наблюдал, пытаясь намеками открыть на него глаза своему воспитаннику; однако национальная вежливость и жалость мешали ему высказаться по этому поводу без всяких обиняков. В первые дни мобилизации, в дни первого объявления войны, он взял привычку протягивать гостю обе руки и пожимать ему руки, что глубоко трогало нашего дуралея, но смысл такого отношения к нему не очень доходил до его сознания.
— Друг мой! — восклицал итальянец. — Порох, печатный станок — конечно, именно вы когда-то изобрели их! Но если вы полагаете, что мы выступим против революции… Саго…
В дни тоскливого, мучительного, как пытка, ожидания, когда нервы всей Европы были напряжены до отказа, Ганс Касторп не виделся с Сеттембрини. Беснующиеся газеты проникали теперь из глубин равнины прямо к нему на балкон, пронизывали дрожью весь дом, наполняли удушливым смрадом пороха столовую и даже комнаты тяжелобольных и морибундусов. Это были секунды, когда сонливец, очутившись неведомо как на траве лужайки, еще не понимая, что случилось, медленно приподнялся, потом сел и протер глаза… Но дорисуем эту картину, чтобы верно воспроизвести движения его души. Подобрав ноги, он встал и посмотрел вокруг. Он понял, что расколдован, спасен, освобожден, но не себе обязан этим, как вынужден был со стыдом признаться, а выброшен из прежней жизни внешними силами, для которых его освобождение было делом весьма второстепенным и, так сказать, побочным. Хотя его скромная судьба и исчезала на фоне всеобщих судеб человечества, не выражалась ли и в ней какая-то предназначенная лично ему, а следовательно, божественная доброта и справедливость? Не допустила ли опять к себе жизнь свое грешное и трудное дитя, но без посулов дешевого благополучия, а только так вот — строго и серьезно, через испытание, которое, может быть, означало совсем не жизнь, а три почетных залпа в честь его, грешника? И вот он встал на колени, подняв глаза и руки к небу, — хоть и сернисто-серое, оно уже не было пещерным сводом над Греховной горой [221].
В этой позе его и застал Сеттембрини, — выражаясь, конечно, образно, ибо в действительности чопорность нашего героя не допустила бы столь театрального зрелища. В чопорной действительности ментор застал его за укладыванием чемоданов, ибо Ганс Касторп с минуты своего пробуждения оказался втянутым в суету и водоворот торопливых отъездов, вызванных все взорвавшим громовым ударом, прогремевшим на низменности. «Отечество» напоминало развороченный муравейник. Колония живших здесь наверху очертя голову ринулась вниз, на глубину пяти тысяч футов, в долину испытаний, повисая на подножках игрушечного поезда, побросав багаж, который лежал штабелями на перроне вокзала, кишевшего людьми, вокзала, до которого как будто уже доносилась удушливая гарь сражений; и Ганс Касторп ринулся вместе со всеми. Среди этой сумятицы его обнял Лодовико, в буквальном смысле слова, и как южанин (или как русский) расцеловал в обе щеки, что очень смутило самовольно уезжавшего ученика. Но он чуть совсем не потерял самообладание, когда Сеттембрини в последнюю минуту назвал его просто по имени, то есть «Джованни», и, пренебрегая принятой на цивилизованном Западе формой обращения, назвал его на «ты»!
219
…деяние народное и освободительное, направленное против… цитадели зла… — Наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд (1863—1914) стоял во главе военно-аннексионистской партии и выступал с планами захвата Сербии и ее присоединения к габсбургской монархии, за что был убит членами сербской националистической организации в Сараеве 28 июня 1914 г.
220
…ультимативные требования, предъявленные некоей монархией к Сербии… — Стремясь использовать сараевское убийство как повод для разгрома Сербии и развязывания войны, Австро-Венгрия предъявила сербскому правительству заведомо неприемлемый ультиматум и, несмотря на то, что последнее, по совету России, согласилось почти на все его условия, тем не менее объявила Сербии войну.
221
…оно уже не было пещерным сводом над Греховной горой. — Намек на легенду о немецком миннезингере XIII в. Тангейзере. Греховная, или Волшебная, гора — Герзельберг, где, по преданию, Тангейзер провел семь лет в плену у языческой богини Венеры и куда он вернулся вновь, уже навсегда, после того как папа отказал ему в отпущении грехов.