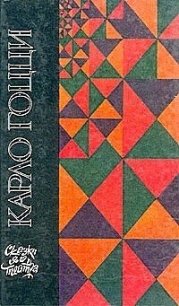Кнут - Зорин Леонид Генрихович (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Яков Дьяков поощрил Порошкова:
— Благодарю вас за резюме. Те из нас, кто не жил в Париже до взятия Бастилии третьим сословием, не знают, что такое учтивость, и вряд ли сумеют вас оценить. Но я-то там был и я оценил вас.
Один лишь доблестный Маркашов, вставая из-за стола, пробурчал:
— И все-таки все во мне бунтует против апологии плетки.
Но Дьяков услышал эти слова и бросил небрежно:
— Ваш бунт тоже кнут.
Полякович негромко сказал Маркашову:
— Самый безжалостный из кнутов — это общественное мнение. Я вам советую смириться.
— А я не смирюсь, — сказал Маркашов.
— Сгорите, — предупредил Полякович.
— Пусть. Если я гореть не буду, то кто ж тогда рассеет мрак? Я человек шестидесятых…
Тяжко ступая, он удалился. А между тем, к Якову Дьякову, медлительно перемещаясь в пространстве, приблизился плотный человек с благожелательной усмешкой. Все это время сидел он молча, не принимая участия в спорах. Отлично воспитанный Порошков лишь раз или два взглянул на него, спрашивая одними глазами, нет ли у гостя желания высказаться. Но гость лишь улыбался в ответ. Впрочем, он уже всех приучил к тому, что выступает тогда, когда ему это кажется нужным. То был Иван Ильич Семиреков, весьма уважаемое лицо, входившее в интеллектуальный штаб власти. В нечастых случаях, когда возникала необходимость в мозговом штурме, его призывали на службу отечеству и национальной идее.
— Ну что же, Подколзина можно поздравить, — весело сказал Семиреков. — Толкователь у него превосходный.
— Слишком высоко для меня, — со вздохом откликнулся Яков Дьяков. — Дай бог дотянуть до популяризатора. Вообще говоря, заводиться не следовало. Подколзин будет мной недоволен. Я прост и горяч. Постоянно вспыхиваю.
— Не скромничайте, — сказал Семиреков. — Так «Кнут» утверждает соединение и очерчивает границы? А вы уловили лейтмотив.
Дьяков посмотрел на него и, подавляя волнение, вымолвил:
— Иван Ильич… только вы не сердитесь… Я знаю, из вас слова не вытянешь… Можете мне не отвечать. Вы… читали? Впрочем, прошу извинить меня…
Семиреков покачал головой и дружелюбно рассмеялся.
— Лучше скажите о вашем затворнике. Как он живет? Говорят, чуть не бедствует…
Дьяков с достоинством помолчал.
— Что уж об этом… — сказал он негромко. — Подколзин не жалуется. Никогда. А вообще-то, Иван Ильич, не худо было б его ободрить. Когда человек всегда один… Доброе слово и кошке приятно.
— Это верно — и кошке и небожителю, — весело сказал Семиреков. — До свидания, Дьяков, был рад с вами встретиться.
Выйдя на улицу, Яков Дьяков увидел Глафиру Питербарк.
— Вы — гладиатор, вы победитель! — восторженно выкрикнула Глафира. — Я любовалась и упивалась. Каждой мыслью и каждым словом. На Маркашова смотреть было жалко. Если бы Подколзин вас слышал…
— Слава богу, что он не слышал, — сказал Дьяков. — Не любит, когда я взрываюсь. Он сам никому не отвечает. Ну что тут поделаешь? Он — олимпиец, а я по-прежнему чувств не таю и голову теряю по-прежнему.
При этих словах он нежно взглянул на смуглые щечки и жаркие глазки. Его откровенное восхищение доставило девушке удовольствие. Она элегически вздохнула:
— Жаль, что Подколзин так неприступен.
— А вы бы смогли его полюбить? — с сомнением произнес Яков Дьяков.
Помедлив, Глафира произнесла:
— Не знаю. Но хотела б понять, что такое — лежать в объятиях гения.
— Холодновато, — поежился Дьяков, словно он это испытал. — Над ним уже перистые облака, не говоря о кучевых. Разумнее сделать привал у меня. Во-первых, на мне, безусловно, почиет подколзинская благодать, а во-вторых, я земной, я близкий, и, как вы видели, непосредственный.
Черный клок призывно затрепетал, зеленые зрачки загорелись.
— Едем, — решительно сказала младая Глафира Питербарк.
Когда они очутились на Яузском, в чистенькой дьяковской гарсоньерке, декадентка прижалась к нему всем телом и прошептала:
— Хочу кнута…
Стон прерывист, вздох неровен. Полюбовная игра. На жарчайшей из жаровен полнокровны вечера.
После битвы они приняли душ. Вытирая махровым полотенцем длинные шелковистые ноги, Глафира Питербарк ворковала:
— Спасибо Подколзину, он нас свел. Однако вы очень изобретательны и можете подчинить себе женщину. Я это сразу же просекла, когда вы так упоенно топтали этого бедного Маркашова.
— Что за нелепые параллели! — недоуменно воскликнул Дьяков. — Надеюсь, в отличие от вас, чья неуемность — подарок неба, старый боец теперь уймется.
Он ошибся. Маркашов не унялся. В вольнолюбивом «Вечернем звоне» неукрощенный ветеран выступил со страстной статьей. Не без тактических оговорок и заверений в уважении (возможно, включенных по просьбе редакции), он выражал свое несогласие с главной концепцией «Кнута». Статья завершалась весьма темпераментно:
«Мощно, талантливо, заразительно! Но почему на душе так смутно? Дохнуло Батыем и Мамаем. Неужто и в самом деле нам требуется для поступательного движения кнут, занесенный над головой? И наш столь терпеливый народ фатально на него обречен? Неужто ему не достанет сил когда-нибудь разорвать пуповину, трагически связывающую его с этим азиатским отростком его исторической судьбы? Как объяснить, что именно кнут стал предметом многолетних исследований, к тому же источником вдохновения этого сильного ума, оригинального и бесстрашного, но с демонической устремленностью? Мне, право же, не доставляет радости писать эти горькие слова. Но, восхищаясь талантом Подколзина, я тем более не хочу недомолвок. Поэтому я ему и говорю: „Верю, что вы сами придете к отрицанию отрицания, вам не понадобится кнут как сила, торящая дорогу. И мы пойдем по ней вместе, рядом, в новый век, в новое тысячелетие“.
Вскорости в газете «Ужо!» был напечатан ответ Маркашову, принадлежавший перу Демьянова, любимого публициста издателей. Выразив твердое убеждение, что за призыв «разорвать пуповину» Маркашову еще придется ответить на «Страшном, но справедливом суде», Демьянов насмешливо заключил:
«Вестернизаторы встрепенулись! Они занялись этимологией. С каким напором они доказывают, что кнут чужероден российской Европе. Нет спора, он был занесен Ордой, но он был освоен, пропущен сквозь сердце и лишь тогда вошел в обиход, стал спутником и Доли и Поля (не исключая поля брани). Он и вселил в народную душу чувство уверенности и прочности, он пращура из слуги обстоятельств сделал хозяином положения. Воспитывал, прививал способность следовать за ведущей волей, без чего нет осмысленного движения. Он — общее равное дитя татарства и славянства, в нем слышится столь дорогой евразийский посвист, и в нем живет евразийский дух. Он — наше связующее звено, он словно гонит в единое русло два потока, а может быть — два потопа.
Не скрою, что яркому мыслителю хотелось бы братски пожелать большей точности и бескомпромиссности. Его стремление все объять иной раз словно смещает векторы. Не зря же господин Маркашов лелеет мечту о возможном союзе. Кнут Подколзина хлещет слишком размашисто, порою отрываясь от почвы, где-то уже под небесами. И все же, нет у меня сомнений, что эта бессонная мысль останется в пределах родной для нее парадигмы, что этот мозг, как надежный компас, определит единственный путь. На этом пути не будет места ни Маркашову, ни его присным, ни всем этим агентам влияния с их криками об общей судьбе. Кнут Подколзина с богатырской силой опустится именно там, где должно, как неминуемое возмездие».
Читая, Дьяков качал головой. Разбушевавшихся полемистов следовало призвать к порядку. Спустя три дня в газете «Экватор», гордившейся взвешенностью оценок, он дал отповедь обоим трибунам. Она называлась «Делят шкуру медведя». Далее следовал подзаголовок: «Дискуссия о путях культуры, оказывается, не утихает».
Статья начиналась строго и требовательно:
«Минутку внимания, господа! Хочу объясниться с современниками, так сказать, с братьями по разуму».
Далее автор почти ностальгически вспомнил свой розовый период: