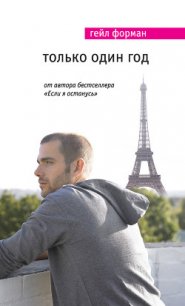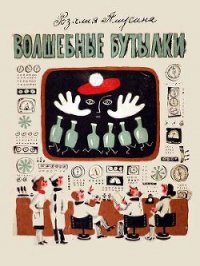Снеговик - Фарфель Нина Михайловна (читаем книги .txt) 📗
— Зачем говорить то, чего нет на деле, господин майор? — воскликнул он. — Карин Бетсой отнюдь не так больна и находится совсем не столь далеко, как ты думаешь. Она хорошо поспала, и теперь, после доброго отдыха, рассудок ее так же ясен, как твой. Не бойся же призвать сюда Карин Бетсой. Спора нет, настрадалась ее бедная душенька, особенно с того дня, как пришлось расстаться с ребенком; но если она и говорит подчас темно и непонятно, она все же обладает здравым умом и твердой волей: тому пример, что никому не стала известна ее тайна, даже мне, хоть я и знал того младенца; однако имя и историю его я впервые услышал только сегодня. А это значит, что женщина, умеющая хранить тайну, — не чета другим, и если уж она заговорит — ее словам надо верить.
И, распахнув дверь в караульню, он сказал ясновидящей:
— Иди сюда, сестра; тебя здесь ждут.
Карин вошла, приковав к себе любопытные взгляды.
Бледное, преждевременно состарившееся лицо ее, удивленный взгляд, неуверенный и в то же время торопливый шаг вызвали поначалу скорее жалость, нежели симпатию. Однако при виде столь многочисленного сборища она внезапно выпрямилась, и поступь ее стала заметно тверже, а на лице отразились восторг и решительность. Серые лохмотья, столь дорогие ей, которые она всегда снимала перед тем, как уснуть, уже не покрывали ее крестьянского платья, и белые как снег волосы были стянуты красным шерстяным шнурком, что придавало ей какое-то сходство с сивиллой древних времен.
Она подошла к пастору и молвила, не дожидаясь его расспросов:
— Отец и утешитель страждущих, ты знаешь Карин Бетсой; тебе известно, что душа ее не способна на преступление или обман. Карин спрашивает тебя, почему звонит колокол нового замка; скажи ей — и она поверит словам твоим.
— Колокол звонит по умершему, — ответил пастор. — Слух твой не обманул тебя. Я знаю, Карин, что тебя давно тяготит какая-то тайна. Теперь ты можешь говорить открыто, и это, возможно, принесет тебе исцеление: барон Олаус скончался!
— Я знала это, — сказала она. — Великий ярл явился мне прошлой ночью. Он сказал: «Я ухожу навсегда», и я почувствовала, как возрождается душа моя. Теперь я могу говорить, ибо сюда вернется «дитя озера». Его я тоже видела во сне!
— Не говори сейчас о снах, Карин, — перебил ее пастор. — Постарайся собрать свои воспоминания. Если ты хочешь, чтобы господь ниспослал тебе просветление и спокойствие духа, сделай усилие, дабы самой познать смирение и покорность; ибо, как я не раз говорил тебе, в безумии твоем немало гордыни, и ты мнишь разгадывать будущее, в то время как сама, быть может, не способна рассказать о прошлом.
Карин несколько мгновений пребывала в замешательстве, о чем-то думая, потом ответила:
— Если добрый пастор владений Вальдемора, столь же человечный и добрый, сколь прежний пастор был зол и жесток, повелит мне рассказать о прошлом, я расскажу.
— Велю и прошу, — ответил пастор, — говори спокойно и помни, что господь слышит и взвешивает каждое твое слово.
Карин снова погрузилась в задумчивость, а потом молвила:
— Мы сейчас находимся в комнате, где уснула вечным сном возлюбленная госпожа!
— Ты так называешь Хильду Вальдемора?
— Да, ее самое, вдову доброго молодого ярла, мать младенца по имени Христиан, который скоро вернется, дабы зажечь рождественскую свечу над очагом своих предков. Она дала жизнь этому младенцу в один из осенних дней здесь, на этом ложе, где и умерла на рождестве. А благословение свое она дала ему возле этого окна, через которое он и улетел, ибо родился крылатым! А потом она солгала, но в сердце своем промолвила: «Да простит меня господь за то, что я на словах убила сына! Но пусть он лучше живет среди эльфов, нежели среди людей!» А потом она пела эти слова под звуки арфы и, умирая, сказала: «Да пошлет господь моему сыну вторую мать!»
Воспоминания с такой ясностью вернулись к Карин, что она не могла сдержать слез; потом мысли ее снова стали мешаться, и пастор, увидев, что она уже не понимает задаваемых вопросов, подал знак даннеману, и тот ласково увел бедную ясновидящую, окинув торжествующим взглядом собравшихся, перед которыми его сестра так разумно отвечала пастору.
— Чего же вы еще хотите? — спросил у них Гёфле. — Разве не поведала вам эта вдохновенная женщина, в словах, исполненных народной поэзии, то же самое, что Стенсон записал здесь с методической точностью, свойственной ему? И своеобразный мир смутных снов, в котором она живет, не есть ли сам но себе достаточное доказательство того, что она жестоко пострадала за тех, кого так любила?
Слишком соблазнителен был повод для защитительной речи, чтобы Гёфле не ухватился за него. Он дал волю вдохновению, быстро подытожил события, частично рассказал о жизни Христиана, сперва подтвердив его личность с помощью писем Манассе к Стенсону, остановился на романических обстоятельствах двух истекших дней и так захватил своих слушателей, что они, позабыв и о позднем часе и об усталости, засыпали его вопросами ради удовольствия еще послушать его; после чего каждый поставил свое имя в конце подробной записи всех событий Этой ночи.
Барон Линденвальд сделал последнюю попытку оживить поникший боевой дух остальных наследников.
— Как бы там ни было, — молвил он, вставая, ибо все двери были уже растворены настежь и каждый был волен удалиться, когда вздумает, — мы еще опровергнем все эти нелепые бредни: мы обратимся в суд!
— Я на это и рассчитываю, — возбужденно ответил Гёфле, — и готов спокойно выслушать все ваши доводы!
— А я отказываюсь от тяжбы, — сказал граф Нора, — я верю всему, что говорилось здесь, и потому ставлю свою подпись!
— Эти господа тоже судиться не станут, — многозначительно сказал посол.
— Станут! — ответил Гёфле. — Но проиграют дело.
— Мы не признаем и будем оспаривать законность этого брака! — воскликнул барон Линденвальд. — Хильда Бликсен была католичкой!
Разгневанный Христиан хотел было вмешаться, но Гёфле поспешил остановить его.
— С чего вы взяли, сударь? — обратился он к барону Линденвальду. — Где доказательства? Где эта пресловутая часовня богоматери, якобы воздвигнутая здесь баронессой? В Стольборге нет больше тайн, неужели кому-нибудь вздумается все еще цепляться за дурацкие россказни, послужившие поводом для преследований и гибели несчастной женщины?
— А не стал ли католиком сам господин Христиан Гоффреди, воспитанный в Италии? — бормотали наследники, уходя. — Подолбите! Вот дознаемся до всего, а тогда посмотрим, может ли унаследовать столь обширные владения и все привилегии, с ними связанные, человек, которому не дано права заседать в риксдаге или занимать высокую должность!
— Молчите, Христиан, молчите! — шепотом сказал Гёфле, силой удерживая Христиана, которому не терпелось догнать своих противников и схватиться с ними. — Ни с места, или все пропало! Когда получите свое наследство, можете признать себя иноверцем, если вам заблагорассудится. А сейчас не поддавайтесь на этот вызов! Ведь никто не заметил, что комната, где мы находимся, вновь обрела квадратную форму!
— Что вы хотите сказать? — спросил Гёфле майор. — Мы могли бы хоть сейчас показать всем замурованную комнату, раз пресловутой часовни там нет!
— Могли бы, если бы сами предварительно не проникли туда, — ответил Гёфле, — но коль скоро мы там были, нас могли бы обвинить в сокрытии доказательств запрещенных обрядов!
Графиня Эльведа приблизилась к Христиану и молвила с величайшей любезностью:
— Надеюсь, господин барон, что еще буду иметь удовольствие встретиться с вами в Стокгольме?
— Но опять при условии, — перебил он, — что я поеду в Россию?
— Нет, — ответила она, — поступайте так, как подскажут вам желания собственного сердца.
— Едет ли графиня Маргарита с вами в Стокгольм? — тихо спросил Христиан.
— Она, быть может, приедет туда, когда вы выиграете дело, если действительно дойдет до суда. Пока что она вернется к себе в замок. Так решено, этого требует предусмотрительность; но я по-прежнему предлагаю вам место в моих санях, чтобы поехать в Стокгольм, где решится ваша участь.