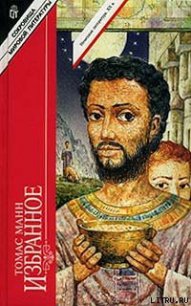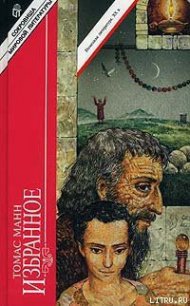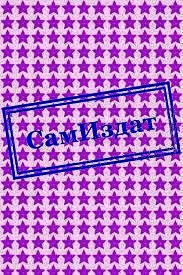Иосиф в Египте - Манн Томас (серия книг txt) 📗
Знаю ли я тебя, узнаешь ли ты себя, слушая мою речь? Попадают ли в тебя мои слова уже вернее и метче? Ты видишь, мне прекрасно известны твои повадки, твои неописуемые привычки, твои несказанные яства и напитки и все твои невероятные услады? Или нужно, чтобы мои кулаки нанесли тебе еще более точный, еще более умелый удар, а мои уста совсем уже беспощадно дали названья свинскому твоему естеству?.. Чудище ты, шлюха и потаскуха, морок ночной с гноящимися глазами! Срамница, сальная распутница преисподней, жительница живодерен, которая копошится и ползает среди мертвечины, обгладывая и слюняво облизывая вонючие кости! Ты утоляешь последнюю похоть повешенного, когда он издыхает, и в ненасытности влажного своего чрева блудишь с олицетворенным отчаянием, — блудишь пугливо, обессилев от пороков, дрожа от малейшего дуновения ветра, преследуемая виденьями, одолеваемая всеми страхами ночи… Страшилище, не имеющее себе равных! Я тебя поняла, назвала, привлекла, привела?.. Да, это она! Она улучила миг, когда луну затмила полоска облака! Ее приход подтверждается громким лаем пса перед домом! Из очага с силой вырывается пламя! А подругу просительницы схватили судороги! В какую сторону глядят ее выкаченные глаза? В какую сторону они глядят, оттуда богиня и приближается!
Мы приветствуем тебя, госпожа. Не взыщи! Мы одариваем тебя по своему разумению. Помоги, если тебе по сердцу это нечистое угощенье и эти беспорочно мерзкие дары! Помоги вот этой болящей, вот этой отвергнутой! Она изнывает по юноше, который не хочет того, чего хочет она. Помоги ей, чем только сможешь, ты должна это сделать, ты у меня в плену! Приневоль тело упрямца, пусть он, сам не зная как, явится к ней на ложе, пусть его шея прижмется к ее ладоням, чтобы она наконец насладилась тем терпким запахом юности, по которому так тоскует!
А теперь скорей отрезанные волосы, дура! Сейчас, перед лицом богини, я принесу любовную жертву и сотворю волшебство сожженья. Ах, эти красивые пряди с близкой головы и с далекой, блестящие, мягкие! Отходы тел, частица плоти, — я, жрица, сложу, свяжу, сплету, случу их кровавыми моими руками, случу многократно и от всего сердца, — вот так, а теперь я их брошу в огонь, и вот он уже пожирает их, торопливо потрескивая… Но почему же лицо твое искажено болью и отвращеньем, просительница! Наверно, тебя тошнит от неприятного духа паленого? Это ваша плоть, нежная моя госпожа, это пары воспламененного тела — так пахнет любовь!.. Ну и хватит! — сказала она просто. — Радение совершено на славу. Пусть он, красавец твой, придется тебе по вкусу! Госпожа-Сука дарует его тебе благодаря искусству Табубу, которое, право же, стоит вознагражденья.
Сбросив с себя всякую заносчивость, дикарка отошла в сторону, двумя пальцами, тыльной их стороной, высморкала после работы нес и погрузила выпачканные жертвоприношением руки в тазик с водой. Луна была ясная. Наложница Ме, упавшая недавно от страха в обморок, уже пришла в себя.
— Она еще здесь? — осведомилась она, дрожа…
— Кто? — спросила Табубу, которая, как врач после кровавого вмешательства, мыла свои черные руки. — Сука? Не беспокойся, побочная жена, ее уже и след простыл. Ей сюда вообще не хотелось приходить, она просто должна была мне повиноваться, потому что я так бесстыдно с ней обращаюсь и так метко определяю ее сущность словами. Да и ничего, кроме того, к чему я вынудила ее, учинить она здесь не может, ибо под порогом дома зарыто три средства, отвращающих зло. Но мое поручение она выполнит, в этом можно не сомневаться. Ведь она же приняла жертву, а кроме того, ее связывает огненное колдовство сплетенных волос.
Тут госпожа Мут-эм-энет, все еще сидевшая у очага, глубоко вздохнула и поднялась. Перед падалью, в которую превратилась собака, стояла она теперь в своем белом плаще, все еще с лавровою веткой за ухом, сложив руки под приподнятым подбородком. После того как она услыхала запах горящих волос Иосифа, смешанных с ее волосами, уголки ее полуоткрытого рта опустились еще горестнее, такие тяжелые, словно их тянули вниз какие-то гири, и грустно было глядеть, как она, печально и скованно шевеля губами, заговорила этим измученным ртом и певуче завела плач, вознося его к небу:
— Услышьте, чистые духи, которых мне так хотелось бы видеть благосклонно взирающими на мою великую любовь к Озарсифу, ибрийскому юноше, услышьте и увидьте, как больно мне участвовать в этом дикарстве и какой смертной тоской лег мне на сердце этот невообразимо тяжелый отказ, на который я волей-неволей решилась, потому что твоей госпоже, Озарсиф, милый мой сокол, этой несчастной, этой отчаявшейся женщине, ничего другого не оставалось! Ах, чистые, как угнетающе тяжко, как позорно подобное отреченье, подобный отказ! Ведь я же отказалась от его души, когда наконец в полном отчаянье пошла на приворотное колдовство, — от твоей души, Озарсиф, возлюбленный мой, — о, как бедственно горек подобный отказ для любви! Я отказалась от твоих глаз, это всего плачевней, я не могла поступить иначе, у меня, у беспомощной, не было выбора. Мертвы и закрыты будут для меня твои глаза, когда мы сомкнем объятья, и только пухлый твой рот будет зато моим — в униженном своем блаженстве я буду его целовать и целовать без конца. Ибо дыхание твоего рта, это правда, мне всего дороже на свете, но еще дороже, дороже вселенной, мой солнечный мальчик, мне был бы один-единственный взгляд твоей души — вот о чем мой вскипающий во мне плач! Услышьте его, чистые духи! В глубокой скорби я возношу его к вам от очага негритянского колдовства. Глядите, как я, женщина высшего званья, вынуждена была в любви унизиться до отсталости и купить наслажденье ценою счастья, чтобы получить хотя бы его — если уж не счастье его взгляда, то хотя бы наслажденье его рта! Но как горько, как больно мне от такого отказа, — об этом, о чистые, позвольте мне, княжеской дочери, не молчать, а громко проплакать, прежде чем я заплачу за искусственно выколдованное наслажденье, упившись бездушным блаженством с его сладостным трупом! Оставьте мне в этом паденье надежду, чистые духи, и сокровенную, тайную-претайную мысль, что в конечном счете наслажденье и счастье, быть может, не так уж и резко отделены друг от друга, что из наслажденья, если только оно достаточно глубоко, может расцвести счастье, что от неотразимых поцелуев наслажденья мертвый мой мальчик откроет глаза, чтобы одарить меня взглядом своей души, и мы тем самым обманем условие колдовства! Чистые духи, которым я посылаю свой плач, оставьте мне тайную эту опору в моем униженье, не отнимайте у меня только надежды на этот обман, на маленький этот обман…
И Мут-эм-энет подняла руки к небу и, судорожно рыдая, упала на шею своей подруге, наложнице Ме, которая свела ее вниз.
Новый год
Любопытство слушателей узнать то, что каждый и так уже знает, достигло тем временем, несомненно, своей вершины. Час, когда оно должно быть удовлетворено, настал, — это главный час праздника и поворот нашей истории, существующий с тех пор, как она пришла в мир и впервые рассказала себя самое: час и день, когда Иосиф, вот уже три года управляющий Потифара и вот уже десять лет его собственность, с великим трудом избежал грубейшей ошибки, какую он мог совершить, и довольно-таки дешево отделался от страшного искушенья, — правда, малый оборот его жизни при этом вновь завершился, и он оказался в яме еще раз — по собственной, как он признавал, вине, в наказанье за поведенье, которое своей вызывающей опрометчивостью, чтобы не сказать — дерзостью, слишком походило на поведенье прежней его жизни.
Параллель между его виной перед этой женщиной и его виной перед братьями вполне правомерна. Снова он в своем желанье «изумлять» людей зашел чересчур далеко, снова, по своему легкомыслию, позволил разрастись, опасно переродиться и выйти из повиновения той силе своей привлекательности, которой вправе был радоваться, пользуясь ею и умножая ее во славу бога; в первой жизни эта сила приняла отрицательную форму ненависти, на этот раз — чрезмерно положительную, а потому опять-таки пагубную форму страсти. В своем ослепленье он содействовал второй так же, как первой, и, дав поблажку тем своим чувствам, что шли навстречу все возраставшему чувству женщины, еще и разыгрывал из себя воспитателя, — он, которого и самого-то явно нужно было воспитывать и воспитывать. Что это заслуживало возмездья, нельзя отрицать; но нельзя и не отметить с тихой усмешкой, что кара, по праву его за это постигшая, очень уж способствовала его дальнейшему счастью, большему и более ослепительному, чем прежнее, разрушенное. А веселит нам душу то проникновение в высшую психологию, которым мы обязаны такому ходу событий. Старо, ибо оно восходит к прологам, к подготовительным началам истории, предположенье, что несовершенство созданного всякий раз доставляет ехидное удовлетворение тем высшим кругам, у которых упрек: «Что есть человек и какой тебе от него прок?» — вертелся на языке испокон веков — тогда как создателя это несовершенство смущает, вынуждая его отдать дань царству строгости и провозгласить торжество карающей справедливости; он явно делает это не столько по собственному желанью, сколько под неким моральным давлением, уйти от которого ему неудобно. Так вот, наш пример отрадно доказывает, что, с достоинством уступая такому нажиму, высшая благость одновременно ухитряется оставить с носом царство обиженной строгости. Она исцеляет тем же, чем бьет, и превращает несчастье в плодородную почву обновленного счастья.